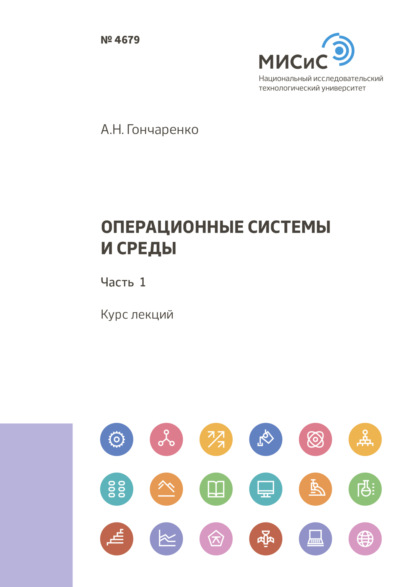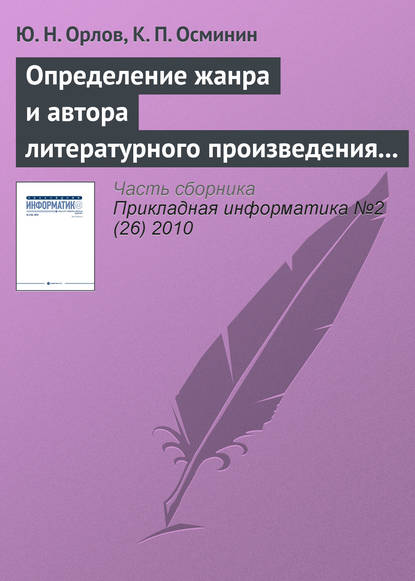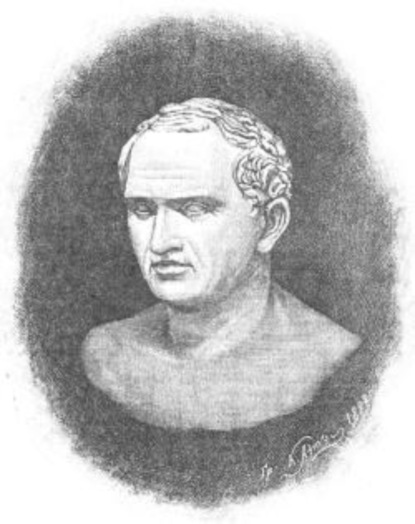Волшебные места, где я живу душой. Мемуары библиотекаря
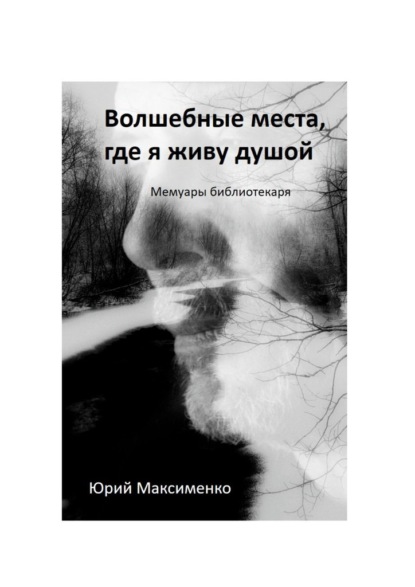
- -
- 100%
- +

© Юрий Иванович Максименко, 2025
ISBN 978-5-0068-4862-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВОЛШЕБНЫЕ МЕСТА, ГДЕ Я ЖИВУ ДУШОЙ
Мемуары библиотекаря
Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,
О ты, певцу дубрав давно знакомый гений,
Воспоминание, рисуй передо мной
Волшебные места, где я живу душой,
Леса, где я любил, где чувство развивалось,
Где с первой юностью младенчество сливалось
И где, взлелеянный природой и мечтой,
Я знал поэзию, веселость и покой… А. С. Пушкин
Вместо предисловия
Помнится, увы, не так уж и много, как хотелось бы… Как там говорил Шерлок Холмс? «человеческий мозг – это пустой чердак, куда можно набить все, что угодно. Дурак так и делает: тащит туда нужное и ненужное. И наконец наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь. Я делаю по-другому. В моем чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой. А лишнего хлама мне не нужно». Получается, я тот самый дурак, который не может на своём чердаке разыскать нужную вещь. Но я попытаюсь. А вдруг получится!
Часть 1. 1964—1989
Явление

Явился я на свет 9 декабря 1964 года в деревне Гдень, которая является самой южной точкой Беларуси. Вы скажете: позвольте, но у вас во всех документах написано, что день рождения 6 декабря. Всё очень просто – в этой чехарде виноват нетрезвый секретарь сельсовета: именно он по ошибке занёс в мою метрику день рождения другого человека. 6 декабря родилась Тамара Тимофеева и именно её дата рождения в документах стала моей.
Впрочем, родился я не совсем в своём Гдене (кстати, истинные гденцы всегда называют в мужском род – Гденём, а не Гденью!), а только зачат и выношен в нём. А на свет появился в близлежащем горпосёлке Комарин, где был роддом. Зимы в те времена были очень снежными – сугробы достигали крыш деревенских домов. Дороги заносило так, что по ним проехать было почти невозможно. Мой папа рисковал, когда вёз готовую родить меня жену через снежные заносы. Только снег летел из-под колёс!
Уже в зрелом возрасте я написал об этом стихотворение «Юрьев день», потому как сподобился я родиться в зимний Юрьев день. Мои родители наверняка и не знали, в какой день я родился, ибо назвали меня в честь Юрия Гагарина.
На Юрьев деньсугробы с крышей вровень…Мой день рожденьясорок лет назад…И мой отецбыл так обеспокоен,как маму отвезтив роддом сквозь снегопад.На Юрьев деньменя снега встречали,и землю завернули в пелену.И ветрынас с землей слегка качали,как будто мы попалив колыбель одну…В день снегопадая на свет явился —чтоб чистым быть,как первозданный снег.С самим собойВсе эти годы бился,то путь к себе начав,то от себя же бег.На Юрьев деньснег чист и многоцветен —он краски жизнисмог в себя впитать.Я быть хочу,как белый снег на свете.Не дай мне, Боже,грязно-серым стать. (2005)Детских моих фотографий не сохранилось, так как поздним январским вечером 2006 года родительский дом сгорел, а вместе с ним – всё самое дорогое. И мама, которая во сне отравилась угарным газом и исчезла в лютом пожарище вместе с домом, книгами, фотографиями… всем… Выжил только папа, который спал недалеко от выхода, и его разбудила кошка, царапавшая лицо…
Остались у меня только несколько моих и маминых фотографий, которые забрал из бабушкиного дома после её смерти (умерла она в феврале, через год после мамы). На одной такой фотографии я сижу посреди заснеженного огорода на табурете. Рядом – мяч и игрушечный заяц. Да ещё фотография Юры-первоклассника в клетчатой рубашке.
Что я помню о своём раннем детстве? Очень мало. Помню наш первый ветхий дом стоял недалеко от краснокирпичного дома кульгавого Уманца. Позже, уже в 80е годы, нашего двора и дома не стало – на их месте незадолго до аварии на ЧАЭС появилась новая улица с вереницей коттеджей для молодых семей колхоза «Чирвона Украина». В нашей Гденской средней школе, единственной в Беларуси, до начала 80х преподавали украинский язык и литературу. Местные жители объясняли этот факт тем, что раньше тот уголок, в котором находилась наша деревня, относился к Украине. Папа очень любил стихи Тараса Шевченко и знал их наизусть. А ещё он любил романы Достоевского, что сейчас может удивить – как простой колхозник без среднего образования может любить романы этого титана духа. Именно по папиному совету я прочитал роман «Униженные и оскорбленные», а после службы в армии пошёл учиться «на библиотекаря» в Минский институт культуры. «Педагогика и журналистика – не твоё, – сказал он мне. – Ты не сможешь врать. Иди на библиотекаря». И я пошёл, о чём нисколько не сожалею, проработав в разных библиотеках больше тридцати лет – почти всю свою сознательную жизнь.
Чернобыль от нас находился в 18 км и мне навсегда запомнилось, как папа с мамой возили туда на рынок продавать поросят, как мы переправлялись в город через Припять на пароме. Об этом я написал в эссе «Мой сладкий, мой горький Чернобыль» уже через много лет после аварии на ЧАЭС.
В Чернобыль в те времена, если не было своего транспорта, можно было попасть только пешком или доехав на попутках. Во всей деревне своя машина – «Запорожец» – была только у Уманца. Когда его просили отвезти в Чернобыль и спрашивали, сколько должны за проезд, кульгавый Уманец отвечал по-украински: «сим-висим». Семь-восемь рублей по тем временам были немалые деньги. Но люди платили, если хотели со своим товаром добраться в Чернобыль на базар.
Наш первый дом на улице Песчаной был по соседству с другой бабушкой – Пелагеей, папиной мамой. Помню, как на участке между домом и сараем росла клубника. И мама пошла выбирать созревшие ягоды. А накануне она купила мне новые сандалии. Пока мама была в огороде, я аленький нашёл в доме ножницы и обрезал в сандалиях застёжки и задники. Когда мама вошла в дом, я встретил её радостным криком: «Мама, смотри, я шлёпанцы сделал». Огорчённая мама, взяла «шлёпанцы» и отшлёпала ими сорванца.
По словам родителей, в детстве я, как все дети, коверкал (а вернее – произносил так, как считал правильным) многие слова: говорил не валенки, а ляунки, не самолёт, а масалёт.
Когда мне было шесть или семь лет (дело шло к школе), родители купили другой дом. Он находился недалеко от нашего – после краснокирпичного дома Уманца стоял дом папиной тёти Маруси, в котором она жила с сыном Анатолием, незамужней дочерью Марией и внучкой Любой. Далее был дом учительской семьи Гордовенко, а потом дом Роя, который и купили мои родители. Он казался мне огромным после того, где я провёл свои первые годы жизни. Помню, мы почему-то не сразу перебрались в новый дом. И по вечерам с папой ходили туда смотреть телевизор – прежние хозяева оставили нам с домом и это чудо техники, которое прослужило нам ещё немало лет. Мне мальчишке телевизор был в диковинку – в старом доме у нас никогда не было телевизора, только проводное радио, висящее на стенке.
Из ярких детских телевпечатлений – старый чёрно-белый фильм о каком-то «дядьке» долго просидевшем в тюрьме, а потом сбежавшем из тюрьмы-замка. Позже, в более сознательном возрасте, я понял, что посмотрел фильм «Граф Монте-Кристо» с Жаном Марэ в главной роли. Так в детском возрасте в мою жизнь вошёл Александр Дюма. Кто бы мог знать, что Дюма станет одни из моих любимых писателей на всю жизнь: в средних классах я бегал в нашу сельскую библиотеку, находящуюся в доме культуры, за красными томами собрания сочинений Дюма, а «Граф Монте-Кристо» станет моей любимой книгой на всю жизнь.
Школа в Гдене

В первый класс я пошёл в старую школу. Это были два деревянных здания недалеко от старого сельсовета и почты, на берегу Брагинки. На другом берегу мелеющей с каждым годом реки, как раз напротив школы, находилось старое городище, где меня позже принимали в пионеры на день пионерской организации и где мы жгли пионерские костры.
Городище это, по словам учителя Ивана Сергеевича Клименка, возникло в древние времена, когда наша местность была покрыта болотами. Наше городище, а также городища в урочище Красный Борок и Гороваха, возвели пришедшие сюда племена древних людей. Они среди болот насыпали высокие холмы из приносимой земли. По словам того же Ивана Сергеевича, название деревни возникло от слова «где», так как наши предки долго искали место, где им поселиться. Возможно это так, но в интернете я нашёл источник, в котором высказывалась другая версия происхождения названия нашей деревни. Интернет-источник утверждал, что название Гдень произошло от слова «гбень», что значит изгиб: древние люди построили свои жилища у изгиба реки. Которой из двух версий верить – не знаю. Но в любом случае Гдень очень древнее поселение, которому не одна сотня лет.
Помнится, в 70х годах наша троюродная сестра Люба Шпетная маленькой играла с подружкой Валей Фуниковой в яме, где гденьцы обычно брали белый песок на свои нужды. Это место находилось на горе между домами, в которых жили старая Воробьиха и Галя Жориха. Девочки испугались, когда из откопанного песка на них посыпался денежный дождь – так случайно был найден большой клад медных пятикопеечных и однокопеечных монет времён Петра. Монет набралось целое ведро или даже больше. Когда о кладе узнали в деревне, жители сбежались и стали разбирать монеты. Помню, у нас дома в кладовке, называемой каморой, стояла деревянная кубышка, полная таких монет, позеленевших от времени. Чтобы отчистить их, мы без устали натирали монеты песком.
Вскоре о кладе узнали в Гомеле и из краеведческого музея приехал сотрудник, ездил по дворам, собирал присвоенные гденцами монеты. Но даже после этого сбора у людей оставались утаённые монеты. Я был впечатлён, когда узнал, что такая монета в свои времена была большими деньгами – за неё можно было купить корову.
Рядом со старой школой был разбит большой сад, в котором мы, школьники, летом выращивали всякие овощи. В большом здании было два крыльца: через одно (ближнее) мы попадали в два класса, а прямо по небольшому коридору находилась дверь в школьную библиотеку, которую я любил. Уже не помню, кто тогда работал библиотекарем, но однажды, когда в школе проводился конкурс чтецов, мне предложили поучаствовать в нём и прочитать выученную по школьной программе «Думу о Ленине». Видимо, я хорошо прочитал её, потому что в подарок получил книгу. Радости моей не было предела.
Через второе крыльцо старой школы мы попадали в довольно просторный коридор, в котором рядом с дверью стоял столик с металлическим колокольчиком – им дежурившие мамы моих одноклассников (среди них хорошо помню маму Светы Клименок, тётю Машу) подавали сигнал о начале или об окончании уроков. Слева от входа находилась большая учительская, а дальше – несколько классов и пионерская комната.
Наш класс находился в дальнем углу коридора справа. В нём, как и в других классах, стояли старые парты с откладными крышками, которые каждое лето красили к новому учебному году. Моей первой учительницей была Ольга Аврамовна Кичкарь. Она учила нас, когда в класс входил кто-то из руководства школы, вставать и нараспев приветствовать входящего «здрав-ствуй-те»!
Ольга Аврамовна однажды очень удивила нас, когда вместо привычных шариковых ручек велела принести из дома перьевые ручки и чернильницы. Писать такими ручками – очень непростое дело: перо в неумелых руках цеплялось за бумагу, оставляя в тетради много клякс. Мы не понимали, зачем нам такие мучения. Только в старших классах я понял, что так Ольга Аврамовна учила нас вырабатывать красивый, каллиграфический почерк. Непростой была наука чистописания.
Ольга Аврамовна в то время, когда мы старательно выводили буквы, могла задремать и тогда ручки откладывались в сторону и каждый занимался своим делом, стараясь не потревожить учительницу.
В моём родительском доме слева от входа в большую комнату, называемую залом, висела в рамочке большая фотография Ольги Аврамовны, поменьше – моя, а надпись гласила «учительница первая моя». Как жаль, что эта фотография сгорела во время пожара.
Кто-то из моих одноклассников поделился своими школьными фотографиями и прислал через социальные сети фото нашего первого класса. На фото Ольга Аврамовна сидит в школьном саду на табурете, сложив руки, а слева и справа от неё в два ряда стоим мы, первоклашки. За нашими спинами – бревенчатая стена школы, которой давно уже нет. Место, где она стояла, густо заросло кустами.
Второй корпус старой школы был тоже деревянным и гораздо меньше основного. В нём размещались два класса и школьный буфет, в котором работала жена моего крёстного, Люда (отчество не помню) Максименко, в деревне известная под прозвищем «Шарманка». Позже она работала в сельской библиотеке и может по её халатности, а может из-за потерь читателями из библиотеки стали пропадать книги. Моё любимое краснокнижное собрание сочинений Александра Дюма пострадало одним из первых. Помню, темными зимними вечерами я всматривался, горит ли свет в сельской библиотеке. И если видел там манящий огонёк, бежал (от нашего дома до библиотеки было, по-моему, около километра), чтоб взять книгу и вечером читать её на теплой печке.
Здания старой школы быстро ветшали, и директор школы добился, чтобы построили новое. Строить её начали, когда я учился в шестом или в седьмом классе. Последний свой, восьмой год учёбы (поскольку учеников становилось меньше, и школа из средней стала восьмилетней) я учился уже в новом здании школы. Её построили недалеко от клуба и магазина, рядом с новым зданием правления колхоза, сельсоветом и почтой. Прямо под окнами нашего класса (он находился на втором этаже), через забор, стоял дом Ольги Аврамовны, но она уже не работала в школе.
Мы, ученики, помогали в строительстве школы (разгружали, складировали белый кирпич и т.д.) и с энтузиазмом помогали учителям заносить в мастерскую на первом этаже станки, на которых учились работать школьники. Я очень радовался, что буду учиться в новой школе.
В восьмом классе нашим классным руководителем стал приехавший в деревню с молодой женой учитель физики Владимир Владимирович Кацубо. Они жили в пустовавшем доме, недалеко от дома моей бабушки. Поздней осенью идя мимо их жилища, я видел, как Владимир Владимирович готовится к зиме, тщательно нанося на окна вдоль штапиков оконную замазку. Через пару лет эта семья переберётся в здание, где находился старый фельдшерско-акушерский пункт. Я каждое утро по дороге в школу проходил мимо этого здания, окружённого старыми высокими осокорями.
Нам очень нравился Владимир Владимирович. Помимо того, что он интересно преподавал физику (а его жена – русский язык и литературу), наш классный организовал фотокружок, учил нас фотографировать, проявлять фотоплёнки и печатать фотографии.
Однажды Владимир Владимирович принёс новёхонький полуавтоматический фотоаппарат «Вилия», зарядил в него плёнку и каждому частнику фотокружка было позволено сделать по два кадра. Счастливый я прибежал домой, собрал родителей, братьев и сестру во дворе, чтобы сделать снимок на фоне дома. Но первый кадр был испорчен, так как неопытный фотограф не предупредил снимающихся, чтоб застыли перед тем, как «вылетит птичка».
Когда проявили плёнку и распечатали с учителем фотографии, классный и одноклассники смеялись, увидев такую картинку: на табуретках сидят мои родители, мама моргнула, не предупреждённый папа что-то продолжал жевать, поэтому мама вышла «спящей», а отец с перекошенной во время жевания челюстью. Сестра и братья, которые что-то кричали и жестикулировали, так и застыли на фото.
Вторая фотография получилась удачной. На ней я сфотографировал братьев с нашей собакой Чайкой возле старой двуствольной груши в виде латинской буквы V. Груша эта вскоре от старости, порывов ветра сломалась и не дожила до пожара, от которого погибли родительский дом и мама.
Уже находясь в рядах Советской армии (служил я в стройбате – сначала в городе Энгельс Саратовской области, потом в Куйбышеве (Самаре), где едва не остался жить и работать в тамошнем институте Военпроект), узнал, что наш прекрасный любимый классный Владимир Владимирович трагически погиб, упав с дерева.
Новое здание школы верно служило вплоть до аварии на Чернобыльской станции. В огромном спортзале в будние дни проходили уроки физкультуры, в другое время работали спортивные секции или проводись вечера. Смеюсь вспоминая, что на урок физкультуры у меня не было кедов и я взял папины тапочки. Во время бега потерял одну из тапочек и тогдашний учитель физкультуры Василий Михайлович Самойленко (все в селе называли его прозвищем Щульц) и под общий смех класса засандалил мою потерю далеко в угол спортзала.
В восьмом классе, по поручению директора школы Николая Михайловича Сетко, я играл Деда Мороза на школьном новогоднем утреннике. За удачно сыгранную роль меня наградили двутомником романа Толстого «Война и мир», о чём свидетельствовали дарственная надпись в книге, подпись директора и печать школы. Я был ошеломлён, когда увидел на подаренной книге перечёркнутые штампы школьной библиотеки – видимо, других подарков у дирекции школы из-за отсутствия денег не нашлось.
Меня удивило, почему выполнявшая обязанности библиотекаря учительница не купила новые книги в сельском магазине. Ведь в нашем сельпо помимо продуктов, одежды и многого другого продавались и книги. Незабываема радость покупки первой книги – это был сборник Салтыкова-Щедрина, его сказки и роман «Господа Головлёвы».
Восьмилетку я закончил в Гдене, а девятый и десятый класс заканчивал в Комарине. Вместе с некоторыми гденьскими одноклассниками (Тамара Самойленко, Валя Лихошапко, Света Клименок, Люба Мацапура) жил в общежитии рядом со школой и домой наведывался только на выходные. Но это уже другая история.
(на фото 1972 года – мой первый класс. Юный Юра Максименко – во втором ряду третий справа. Моя троюродная сестра Тамара Самойленко, за учительницей, Валя Лихошапко справа от Ольги Аврамовны)
Родное

Хотя нашего дома уже давно нет, но, когда закрываю глаза, вижу в подробностях дом, двор, огород, нашу улицу. В памяти всё нетленно. У нашего дома было два входа: один – во двор с разными постройками, второй – во двор с погребом и большущим кустом сирени. В палисаднике под окнами дома росли вишни и стучали в стёкла своими ветвями.
В глубине первого двора стоял сарай, в котором наша корова, а за двумя другими перегородками – свиньи. В далёком детском прошлом к нам приезжала из Севастополя тётя Мария со своими детьми Ларисой и Игорем. Помню дикий восторг Ларисы, когда садилась на одну из наших свиней и пыталась на ней покататься.
В этом же дворе стояла постройка, называемая дрывотней – в ней когда-то хранились рубленые дрова для печки. Со временем она стала кладовкой для разных бытовых вещей, но по-прежнему называлась дрывотней. Рядом с ней, на самой границе с двором соседей Гордовенко, стояла молодая берёза. Она росла вместе с нами. Именно у этой берёзы мои родители и соседи решили выкопать колодец – один на две семьи. Берёза роняла листья в тёмные глубины колодца.
Когда входишь в дом с крыльца с правой стороны дома, попадаешь в сени (мы их называли сенцами). Почти при входе стояла газовая плита, у которой всегда хлопотала мама – готовила завтраки-обеды или жарила любимые мной пирожки с яблоками. В сенцах была дверь в камору, где стоял большой сундук для сала и других съестных припасов собственного приготовления.
Заходим в дом, на кухню. Тут сразу встречает печка, стоящая слева. Справа долгое время стояла стиральная машина. Мама почти не пользовалась ею по назначению, стирала в основном вручную, а на машине вечно стояла какая-то посуда. Папа в шутку называл машину стиральной тумбочкой. Рядом с машиной у единственного окна кухни стояла тумбочка, служившая обеденным столом. В её ящике хранились вилки-ложки, а в внизу, на полках за дверцами – повседневная посуда. В углу за тумбочкой-столом находился белый буфет, в котором помимо кое-какой посуды хранились купленные хлеб, сахар и другие продукты. На кухне был подпол, в котором мы на зиму оставляли часть собранной осенью картошки. Другую часть засыпали в специальные ямы во втором дворе, укрывали соломой и присыпали землёй. Картошка оставалась целёхонькой даже после лютых зим. И мы ею засевали огород, а он у нас был большой: одной картошки для себя и своих домашних животных мы засевали на сорока сотках.
На кухне также находилась топка нашей грубки, которую любил топить папа. Он был мерзляком и поговаривал: жар костей не ломит. Грубка обогревала собой все четыре комнаты, так как стояла прямо посредине дома.
Далее – прихожая с выходом во второй двор. Там были тоже небольшие сени и папа с мамой летом, когда в дом стояла жара, стлали на полу постель и спали, открывая по необходимости дверь на улицу.
В прихожей кроме небольшого холодильника «Снайге», кровати, на которой иногда по очереди спал кто-то из родителей, был ещё стол – его выносили от стенки на середину прихожей и накрывали, когда приходили гости или же приезжали дети с внуками.
Холодильник был не только (простите за тавлогию) холодильником – в дверце, за пластиковой задвижкой мама почему-то хранила письма детей. Моих писем там было больше всех. Когда приезжал домой, забирался в холодильник, служащий и семейным архивом, и пересматривал письма.
Дальше – большая комната. Мы называли её залом. В ней четыре окна. Между ними умудрялись как-то помещаться кровать, стол с телевизором в углу (над ним – божница), буфет с посудой для праздничных посиделок и большой полированный платяной шкаф с зеркалом. Над окнами в больших рамах висели фотографии родственников – в одной такой рамке, помню, была свадебная фотография дяди Жени из Малина, младшего брата папы. Над буфетом висели большие, тщательно отретушированные в фотомастерской портреты мамы и папы времён их молодости. Над дверными проёмами в зал и спальню – популярные тогда репродукции картин «Охотники на привале» и т. п.
Замыкала пространство родительского дома небольшая спальня, в которой стояли три металлические кровати. На одной из них – справа – спали родители. Большая кровать слева, у единственного окна, чаще всего использовалась, когда приезжал я или средний брат Гена и сестра Лариса с семьями. Маленькая кроватка слева от дверей в детстве была моей (и я изучал рисунки на прикроватном коврике перед сном), а потом стала использоваться как временное место для постиранного белья и одежды.
Таким я помню дом, в котором прошло детство. После восьмого класса я уже не вернулся на родину и дома бывал наездами. Даже после тех времён, когда деревню выселяли после аварии на ЧАЭС и жители через полгода вернулись домой, устав жить на квартирах у чужих людей, в деревнях за Брагином.
Во время отселения мама иногда приезжала присмотреть за своим домом, ночевала, кормила сбегающихся со всей будто вымершей деревни котов и собак. Рассказывала, как жутко было оставаться спать в деревне, окутанной мраком.
Через огород, недалеко от нашего дома, – дом тёти Маруси, старшей папиной сестры. Он стоит до сих пор нерушимый. В его дворе собираются родственники и земляки, которые приезжают со всего белого света на Радуницу. Средний брат косит траву у двора и вокруг дома.
В канун 35-летия аварии на ЧАЭС мне позвонила редактор телеканала «Мир» Елена Слав и предложила поехать в Гдень, поучаствовать в съёмках фильма о Чернобыле. Я согласился – для меня это был повод побывать на малой родине, где бываю всё реже.
Из всей нашей семьи в Гдене живёт только мой младший брат Игорь с семьёй. Сестра с семьёй прочно обосновалась под Гомелем в Долголесье, брат Гена с семьёй в Прилепах под Минском. Я со своей семьей жил почти тридцать лет в Гомеле (сначала с родителями жены в доме 9 по улице Космической, потом получил свою квартиру в доме 30 по улице Свиридова), а 1 сентября 2017 года, продав квартиры в Гомеле, мы переехали в купленный под Минском, в Леонтьевичах, дом.
Не уцелел и бабушкин дом. Его растащили на растопку и стройматериалы местные жители. Помню, в один приездов зашёл в уже разорённый бабушкин дом. На столе между двумя окнами, где обычно меня потчевала бабушка, стояла какая-то крынка (у нас она называлась гладышкой) и чайник. На стенах ещё висели фотографии. И всё. Больше ничего. Собрал фотографии и ушёл из дома, чтоб и его и бабушку, которую мы всегда называли Муськой, не забывать никогда.