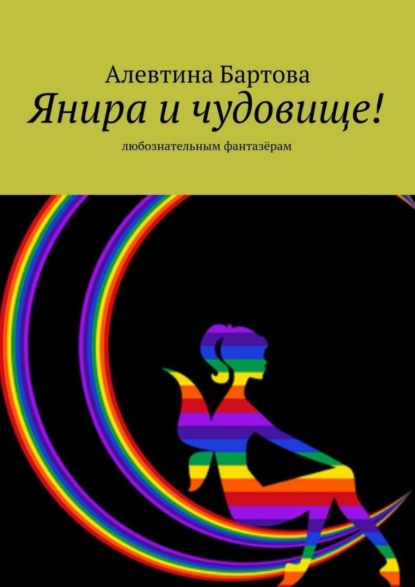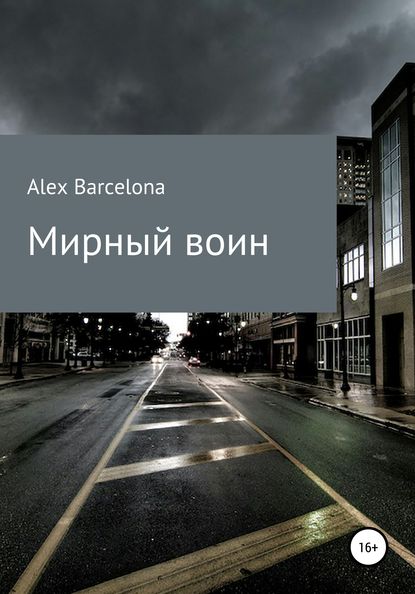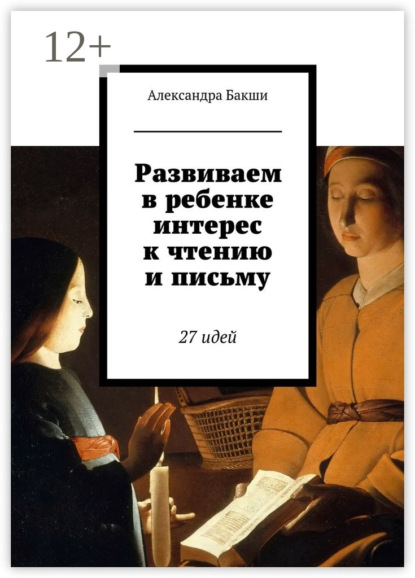Волшебные места, где я живу душой. Мемуары библиотекаря
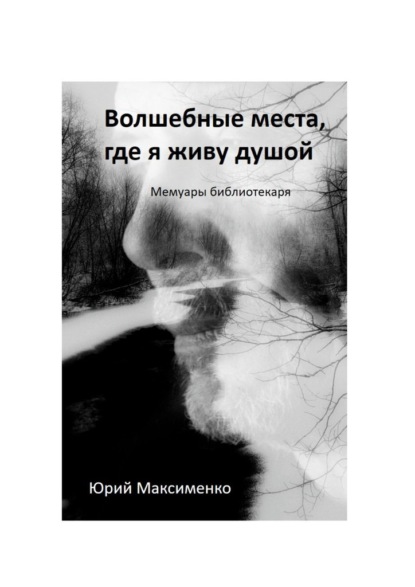
- -
- 100%
- +
Моя дорогая Муська любила меня больше всех внуков, всегда припасала сладенькое, угощала локшиной или квасовкой. Очень радовалась, когда я, приезжая к родителям, оставался у неё ночевать. В студенческие годы и позже, когда попал по распределению в Гомель, я обычно всегда осенью приезжал в Гдень, чтоб помочь копать картошку – и бабушке, и родителям. Огород у бабушки не очень маленький. Муська выходила на засаженный картошкой участок даже в самую лютую жару и собирала в баночку колорадских жуков или делала прополку. Никогда не сидела без дела.
Когда заканчивался мой отпуск и надо было ехать в Минск или Гомель, Муська вечером перед отъездом накрывала стол и потчевала чем могла. А потом давала ссобойку с домашними припасами, повторяя: «Банки привези». Я шёл через огороды домой к родителям, а бабушка осеняла меня крестом, шептала что-то вроде «Нехай тебе Бог помогает во всём» и плакала. Плакал и я. Не знаю, почему.
Никогда себе не прощу, что не поехал на её похороны, когда из Гденя пришла весть о смерти. Мы с сестрой не поехали, решив, что не проедем через бушевавшие в ту зиму снегопады. Могли бы рискнуть и поехать. Бабушку похоронил младший брат Игорь с семьёй. А Муська приснилась мне всего один раз за жизнь в каком-то странном, пугающем сне – зрачков у неё не было почти, только огромные белки глаз. И больше не снится. Думаю, обиделась, что любимый внук не проводил её в последний путь.
И ещё одно воспоминание на всю жизнь. Зима 1983 или 1984 года. Я служил в армии в Куйбышеве (теперь – Самара) и приезжал в отпуск на побывку. Из Куйбышева в наши края можно было добраться только поездом до Киева, оттуда автобусом до Чернобыля, а из Чернобыля уже чем получится. Поездом из Куйбышева до Киева трое суток пути. В Чернобыль из Киева приехал уже когда темно было. И тут до меня дошло, что не знаю адрес тёти, а на улице почти ночь. Готов был ночевать на автостанции. А потом меня почему-то дёрнуло пойти по городу. И возле одной парикмахерской столкнулся… с тётей Галей! Она приходила делать причёску в канун Нового года. Расцеловала меня, повела домой, накормила, спать уложила. Уже не помню, как и чем я добирался в Гдень из Чернобыля.
Отпуск пролетел быстро. Но прошли такие снегопады, что ни один трактор или автомобиль до Чернобыля не мог проехать. А мне надо было срочно возвращаться назад в часть. Папа договорился с водителем какого-то грейдера, чтоб меня отвезли в Чернобыль сквозь огромные сугробы.
Накануне вечером пошёл к Муське попрощаться. Они с соседкой, бабой Катей, накрыли стол. Бабушка предложила выпить водочки или вина. Я пил магазинное плодово-ягодное вино, о чём потом очень пожалел: утром у меня были рвота и слабость такая, что света белого видеть не хотелось. Меня напичкали какими-то лекарствами, посадили в грейдер и отправили в Чернобыль. Как я туда доехал в полуобморочном состоянии, уже и не помню. А бабушка потом себя винила, вспоминая этот случай: это я отравила тебя. И как ей такое в голову пришло?!
По соседству с нами жили баба Катя «Самойлиха», Софа «Ворона» и «Куцы». Рядом с домом Куцев, через узенькую уличку, ведущую на колхозное поле, называемое почему-то Майданчиком, стоял дом Ивана «Казака», который, сколько его помню, работал пастухом в колхозе. Дальше по той же стороне улицы – дом семьи Самойленко. У Галины и Григория было трое детей – старшая дочь Лида и сыновья Алик (Олег) и Витя. С ними мы играли на улице до сумерек в лапту, и дружили, и дрались. Всякое было. Помню, как по какой-то причине повздорили между собой Алик и Лида, а я был у них в дворе. Алик схватил кусок попавшего под руки кирпича и бросил в убегающую Лиду. И вместо Лиды попал мне в голову. Сотрясения мозга не было (нечему было, наверно, там сотрясаться!), а вот рана рваная была большой.
В драках я не был сильной стороной и мне часто попадало. Дрались мы и с моей сестрой Ларисой и братом Геной. Однажды случилась одна из таких стычек у нашего двора. Гена подхватил найденную на улице палку и бросил в меня. А у палки один конец оказался острым. Он и угодил мне в голову (самое слабое моё место, наверно!), рядом с левым виском. Я не сразу понял случилось. Помню, как бросился на брата, повалил его на землю и хотел бить и вдруг увидел, как на спину ему откуда-то льётся кровь. Фельдшер потом сказал: если бы палка попала хотя бы на сантиметр в другую сторону, угодила бы прямо в висок и, возможно, меня не было бы на этом свете. Но, слава Богу, всё этого не случилось. Неделю я ходил в деревенский ФАП и врач вымывал перекисью водорода из раны гной и осколки той злополучной палки. А на месте раны на всю жизнь остался шрам.
Пишу это не потому, что затаил на кого-то обиду, а просто чтоб законспектировать свои воспоминания, которые так легко вылетают из памяти. Братьев своих и сестру очень люблю и вспоминаю наши детские забавы и проказы.
Во втором дворе, за большим кустом сирени, в виде треугольника отец сложил доски, и мы с сестрой, забравшись внутрь треугольника, решили скурить украденную у папы сигарету. Курево нам не понравилось потому что вызвало жуткий кашель. Уже не помню, наказывали ли нас родители за курение.
Отец был физически очень сильным мужчиной, жёстким, а иногда и жестоким. Часто от него страдали и мама и мы. Многое есть, чего и вспоминать не хотелось бы, а вспоминается уже без детской обиды, а просто потому, что застряло в памяти: как ревнивый и, мягко говоря, не всегда трезвый отец гонял маму по селу, как однажды зимним вечером мы с сестрой чем-то разозлили его и отец выгнал нас на улицу. Ночевали мы у тёти Маруси, старшей сестры папы. Всякое бывало. Но всё сейчас вспоминается по-иному, без горечи и обиды.
Некоторые биографические моменты или истории из жизни односельчан я потом описал в своей пьесе «Пришелец». Написал её по предложению гомельского актёра и режиссёра Виктора Иосифовича Чепелева. Как раз тогда близилась какая-то «круглая» годовщина аварии на ЧАЭС и Виктор Иосифович предложил: напиши пьесу, а я поставлю. Пьесу я написал, но Чепелеву она чем-то не понравилась. Пролежала она долго в столе. Однажды, когда режиссёром любительского театра «Грачи» при Гомельской областной библиотеке стал актёр Сергей Сергеевич Поздняк, вспомнилась и моя пьеса. Поздняк почитал её, чуть сократил (убрал линию с отшельником на острове среди болота) и решил ставить. Память подводит, но мне кажется, что поставить пьесу предложила тогдашний директор библиотеки Марина Сергеевна Рафеева, за что ей сердечно благодарен.
Поставленный Поздняком спектакль получил название «Далёкий дивный свет» – по цитате из моего стихотворения. Он имел шумный успех и на сцене Гомельской областной библиотеки, и в Новозыбкове на международном театральном фестивале «Перекрёсток» и в Комарине, куда мы возили спектакль благодаря инициативе и финансовой поддержке организации «Зелёный крест».
Я очень боялся, как воспримут спектакль родные, земляки, ведь в нём было описано немало реальных историй, произошедших в Гдене. Но из родных были только дядя Миша Шарый с женой (сводный младший брат отца) да приехавший из Гденя мой младший брат Игорь. А комаринцы вряд ли узнали кого-то в героях спектакля.
Родителей главного героя пьесы, Максима Кабешкина, так же, как и моих, зовут Иван и Валентина. Да и фамилия главного героя – производное от прозвища, которое носил папа – Кабешка. Жалею, что не расспросил родителей о происхождении прозвища.
История об отрубанной мужской голове в кормушке колхозного коровника— тоже реальная. Её участники – мои тётя Маруся и крёстная Маня («Бегуниха»), которые работали с мамой доярками. История о грушке, на которой ночью прыгали местные ведьмы; свинье, танцующей на водонапорной башне; о старой Черкаихе увидевшей чёрного человека на мосту через прорву – это всё из былей и легенд моего дорого Гденя.
Всё, о чём пишу, для меня – далёкий дивный свет. Как свет от далёких звёзд, идущий к нам тысячи лет…
Мама

На шестьдесят первом году жизни очень тоскую по родителям, бабушке. Только в зрелом возрасте понимаю, как же их не хватает. Больше, чем детстве. Тогда и мыслей не было, что все не вечны, что они уйдут туда, откуда никто не возвращается.
Мама в молодости была красавицей с роскошной длинной косой. На неё очень похожа моя старшая дочь Лиза. Маме выпала нелёгкая участь родиться в самый разгар войны от солдата, родом откуда-то из Курской области. Бабушка растила её одна, никогда не вышла замуж. Из рассказа брата бабушки помню, как они прятались от немцев где-то на болотах, и молодая моя Муська зажимала рот плачущей от голода маленькой Вале, чтоб их не нашли и не убили.
Папа со своей матерью, бабушкой Пелагеей, которую мы всегда называли Полькой, в годы войны тоже немало испытали и чудом уцелели. Нашу деревню могла постичь участь жителей Хатыни: немцы согнали гденцов в сарай и хотели сжечь. Если бы не вмешательство местного обрусевшего немца Гензельмана, случилось бы непоправимое. Гензельман поговорил с немецким офицером и людей выпустили из сарая, не стали сжигать. Потом было голодное и полуголодное детство. Я всегда удивлялся, почему папа не любит щавлевый борщ, который готовила для нас мама. Оказывается, его маленького и всех своих детей Полька кормила супом, в котором были лишь вода да щавель. Нищета такая, что в семье даже картошки не было.
Маленькую же мою маму в годы войны кормил старший брат Муськи. Он воровал у сестры хранящееся как золото пшено, тайком варил из неё похлёбку и кормил маленькую Валю.
Когда мама выросла, закончив, как она говорила, «три класса с коридором», поехала в Тулу, где жили братья Муськи. Иногда приезжала на родину к матери, в отпуск. В один из таких отпусков встретила своего будущего мужа, нашего папу. В молодого красавца невозможно было не влюбиться. Он уже развёлся с первой женой, которая осталась в Малине с сыном Сашей. (PS. Саши давно нет на свете. Но я помню, как он приезжал в Гдень, приходил к нам домой. Очень похож на папу. Как две капли воды. Но общения у них не вышло. Не помню, зачем приезжала Саша, но папа был с ним холоден, может потому, что до этого старший много лет не общался с ним.)
Мама рассказывала: когда увидела молодого красавца Ивана, решила, что хоть раз с ним пройдёт – на танцы или просто по улице. Прошла, влюбилась, вышла замуж и в Тулу не вернулась. Так почти горожанка Валентина Гуляева снова стала сельской жительницей, всю жизнь проработала в местном колхозе – растила телят или доила коров. Мы, взрослеющие дети, помогали ей и по дому, и на ферме – часто вместо мамы ходили на вечернюю дойку или выезжали в поле на дневную. Если в коровнике были доильные аппараты, с которыми мы ловко справлялись, то в поле нужно было доить только руками. Все мы умели это делать и подменяли маму, когда она была занята многочисленными домашними делами.
Мама была весёлой, любила танцевать и петь. Много знала песен и пела частушки с «перчиком», самую невинную из которых я вставил в свою пьесу «Пришелец»:
И на сердце болит,И под сердце болит.Только там не болит,Где мой милый шевелит.Была ли счастливой её женская судьба? Вопрос вопросов. Мама часто повторяла в последнее время, чтобы не хоронили её рядом с папой: мол, натерпелась от него за всю жизнь, хоть полежу отдельно. Мы не исполнили её просьбу – похоронены они рядом, на одном и высоких мест деревенского кладбища. Рядом с ним – тётя Маруся, папина сестра и мамина подруга. Рядом жили, рядом и похоронены.
Мама и тётя Маруся вместе работали на ферме, часто собирались у нас в доме или у тёти по случаю праздников и или приезда детей. Тётя Маруся со своим мужем Иваном после Чернобыльской аварии поселились вместе с моей семьёй, в один из домов деревни Михновка, за Брагином. Переселенцев тогда просто размещали по домам местных жителей. Дядя Ваня, тётин муж, ночевал в бане, так как в доме мест не было. С мая до глубокой осени. От этого, наверно, он заболел (проблемы с лёгкими) и умер.
Живя в Михновке, мама часто ездила в Гдень, видела деревню безлюдной и зарастающей чертополохом. И очень обрадовалась, когда гденцы и председатель колхоза приняли решение вернуться в родную деревню. Я приезжал к ним в Михновку незадолго до возвращения односельчан в Гдень. Вернувшись из стройотряда, пошёл в парикмахерскую возле железнодорожного вокзала в Минске и сделал модную тогда химзавивку, после которой был похож на молодого Валерия Леонтьева. Когда папа вёз меня из Брагина на своём тракторе-шасси, мама не поняла, кто едет в кузове и спросила тётю Марусю: что за девка с Иваном едет?)))
В январе 2006 года позвонила сестра, сказала, что родители собираются заколоть кабана и приглашают нас на свежину. Но я не поехал – на работе, в областной библиотеке, прорвало водопроводные трубы в книгохранилище и весь коллектив срочно собрали спасать книги. В Гдень поехала сестра с мужем, взяла свежину для себя и для меня, какие-то деньги, переданные мамой. Они вернулись домой, в Долголесье. А на следующий день прилетела горькая весть: дом, который ещё недавно был полон веселья и песен, сгорел поздним вечером. Папа после отъезда детей сильно натопил грубку. Легли спать: мама на большой кровати в зале, папа – на маленькой в прихожей. Пожар, видимо начался, на чердаке от лежака, сквозь трещины которого могли вылететь искры и поджечь крышу. Папу разбудила кошка, и он сквозь дым и огонь выполз на улицу. В объятом пламенем доме угорела и сгорела мама.
Помню, как ехал с Ларисой и Славиком в Гдень на похороны, а в голове моей звучали весёлые песни. Я пытался отгонять их, но бесполезно: они всё равно звучали. Позже мне кто-то из психологов объяснил, что так мой организм боролся со страшным стрессом. Если бы не эти песни, мою психику ждали бы необратимые процессы – я мог сдвинуться рассудком.
Гена и муж сестры Славик съездили в Брагин, привезли всё, что осталось от мамы после пожара. Слава Богу, что я не видел её в таком виде. Иначе не знаю, как бы пережил. От мамы осталось несколько фотографий, открыток и писем, которые храню как самое ценное, что есть в моей жизни.
Комарин

Обожаю Комарин! Небольшой уютный посёлок на берегах древнего Днепра! Очень домашний, очень душевный, с неспешным темпом жизни. В СМИ его почему-то называют КомАрином с ударением на второй слог. А настоящие комаринцы и жители Брагищины называют его по-другому: КомарИн – с ударением на последний слог. В мои школьные времена в нём было много зелени, с двух сторон улицы между старой и новой школами стояли высокие старые тополя. Длинная череда великанов. Теперь их. И зелени вроде как меньше стало. Но осталась песня «Зелёный Комарин».
До 1980 года в Комарине я бывал нечасто – только когда мы ездили за покупками. Или в парикмахерскую. Помнится, она была территории рынка, в каком-то старом здании из красного кирпича. По крайней мере, таким оно «застряло» в мой памяти.
После окончания восьмилетки в Гдене нужно было определяться, куда идти дальше. Ясности не было никакой. Может пошёл бы в какое-нибудь ПТУ (что я и сделал через два года, когда, влюблённый в свою одноклассницу Валю Лихошапко, поехал за ней в Жодино и поступил в ПТУ-75 при БелАЗе), но случилось неожиданное – в августе я заболел гепатитом. У нас его не зря называли желтухой – у меня пожелтели белки глаз, желтоватой стала кожа, да и общее самочувствие было не ахти. Меня отвезли в инфекционное отделение Комаринской больницы. Старое дощатое здание, где оно находилось, до нынешних времён не сохранилось.
От нечего делать я много читал. Всё, что попадалось под руки. Одной из таких книг была повесть Бориса Горбатова «Непокорённые».
(Лирическое отступление. Память – странный механизм: что-то помнится смутно, что-то не помнится совсем, а некоторое помнится до мелочей. Помню свои первые книги, взятые в нашей сельской библиотеке в Гдене, даже их обложки. Например, в память прочно впечатались обложки двух книг: «Рак-вусач» Якуба Колоса и «Урфин Дюс и его деревянные солдаты» Александра Волкова.)
Лежал в одиночку я недолго – вскоре в палате появились парни и даже взрослый мужчина, потом, один за другим, оба мои брата. А в женскую палату «инфекционки» положили и сестру. Вот так, «семейным подрядом» мы провели почти весь август в больнице. Там я и узнал, что некоторые мои одноклассники собираются получить среднее образование в Комарине. Решил к ним присоединиться и я. В больнице пролежал, видимо, ещё и в начале сентября, поскольку на занятия в Комаринскую среднюю школу пришёл не с первых дней. Мои гденские одноклассники уже успели познакомиться с комаринскими сверстниками. И даже подружиться. Например, моя сестра Тамара Самойленко подружилась с Ларисой Ющенко из Жаров. Мне же, человеку нелюдимому, трудно идущему на контакт с незнакомыми людьми, приходилось непросто.
Два года учёбы в Комарине просидел на первой парте рядом с Людой Ермак из Берёзок. На фотографии в выпускном фотоальбоме она выглядит лет на тридцать из-за неумело нанесённого макияжа. Но с ней мы просидели чинно и мирно, без всяких эксцессов. Моими одноклассниками стали очень приятные, умные и талантливые парни и девушки: Лена Максименко, Таня Стукач, Ира Скачёк, Надя Данилевич, Сергей Момат, Юра Пархомчук и другие. Многие из них были отличниками, и я со своими средними способностями выглядел на их фоне весьма бледно. Завидовал выдающимся способностям к точным наукам, ярко выраженным у Иры Скачёк или Юры Пархомчука.
(Отступление. Странно, но только в начале 2020-х годов (если память не подводит), во время посещения кладбища в Гдене на Радуницу встретил Юру Пархомчука, уже изрядно седого, и только тогда узнал, что мы родственники – его мама и моя бабушка приходились друг другу сёстрами.)
Нас, ребят из окрестных деревень, поселили в общежитии рядом с корпусом новой школы. Комендантом у нас была строгая, но справедливая Тамара Михайловна Глувко, а уборщицей и ночной нянечкой по совместительству – Нила Кирилловна, корни которой тоже из Гденя. Мы её очень любили, уважали и слушались.
В общежитии не было в то время ни умывальника, ни туалета. Умывались мы у колонки в школьном дворе. А зимой помогали Ниле Кирилловне приносить воду в общежитие, заливать в рукомойники. А место общего пользования стояло глубоко в школьном дворе, его приходилось посещать страждущим даже в зимнее время.
Первое и самое неизгладимое впечатление на меня произвела живущая с нами в общежитии Ира Скачёк, приехавшая со своим младшим братом из Киргизии или Казахстана. Она обладала восточной эффектной внешностью, смуглой кожей и длинной косой из крепких иссиня-чёрных волос. Помнится, когда Ира танцевала на какой-то нашей вечеринке под песню «Sunny» группы Bony M, её коса вертикально зависала в воздухе при вращении Иры вокруг своей оси. Потом она зачем-то обрезала косу и стала похожа на смуглого восточного мальчика.
В общежитии с нами жили также Володя Молочко, братья Целики из Пасеки. Коля был моим одноклассником. В будние дни мы проживали в общежитии, а на выходные разъезжались по своим деревням. Одна из таких поездок тоже осталась незабываемой на всю жизнь. День тогда выдался дождливым, а добраться до Гденя было нечем и нас повёз ухаживающий тогда за Тамарой Самойленко странный парень Вовян, который был намного старше Томы. Не понимаю, каким образом мы все (Тома, Валя, Люба, Света и я) забились в кабинку трактора, и Вовян нас повёз не по шоссе, а через лес на Карловку, в сторону Гденя. По дороге мы пели песни. А когда я, вымокший под дождём пришёл домой, включил нашу радиолу «Рекорд» и поставил на неё гибкую пластинку из журнала «Кругозор», снова зазвучала никогда незабываемая «Sunny» группы Bony M!
Нашим классным руководителем был учитель истории Владимир Брониславович Чехович. Человеком он мне казался весьма странным. Рассказывая нам, девятиклассникам, о Великой Отечественной войне, вдруг сказал, что фашисты мучали взятых в плен наших солдат и матросов, подвешивая их за гениталии. Я оторопел от услышанного. Наверно, эта тема была его пунктиком.
Память до сил пор хранит, как Владимир Брониславович странно тянул слова, обдумывая каждое из них. Странная гримасса застывала на его лице – то ли боли, то ли ужаса, то ли неописуемая полуулыбка.
Однажды Чехович дал мне задание – написать афишу о планирующемся в феврале вечере выпускников. На неё был потрачен целый вечер. Постоянно отвлекаемый одноклассниками, я не заметил, как вместо «Вечер встречи» написал «Встреч…» и осознал свою ошибку. Но делать было нечего: исправлять написанное «встреч» на «вечер» – значит испортить ватман, который был у меня один. И я продолжил приписывать слова к имеющемуся «Встреч…». В результате получилось «Встречный вечер». Афишу повесил в центре возле поселкового совета и магазина.
Назавтра был поднят с места рассвирипевшим Чеховичем: «Что это за встречный вечер? Вечер забулдыг? Немедленно снять объявление и написать другое». Что я и сделал на новом ватмане. Но этот «встречный вечер» тоже навсегда «застрял» в памяти. А ещё запомнилось, как на этом вечере Маша Коляда и Света Петрусевич блистательно сыграли двух деревенских старушек, обсуждающих танцующую молодёжь.
Однажды Владимира Брониславовича накануне вечера выпускников посетила «гениальная» идея устроить перед выпускниками защиту выбранных профессий. Не помню, какие из них попались на защиту моим одноклассникам, а мне выпала профессия… официанта. Я с энтузиазмом готовился к защите выпавшей профессии, много читал, восторгался информацией о том, сколько километров за день проходят официанты и сколько сотен килограмм переносят на своих руках. Но когда вышел выступать перед аудиторией и объявил, что защищаю профессию официанта, в зале засмеялись. Растерявшийся и расстроенный, я не помню, как закончил своё провальное выступление.
Но мои актерские задатки не пропали даром. И я их вскоре проявил. На одном из литературных вечеров сыграл Лявона в отрывке из пьесы «Лявоніха на арбіце», поставленной Линой Адамовной Пятницкой.
(Отступление. Уже работая методистом в Гомельской областной библиотеке, я встретился с Линой Адамовной в Брагине, где она работала заведующей отделом культуры. С ней мы ездили по району, проверяя, какую работу проводят библиотеки по профилактике пьянства и алкоголизма. О той незабываемой поездке я немного иносказательно написал в своём ироническом «Незаконченном романе с библиотекой». Именно в школе я сделал и свои первые пробы пера – писал стихи и сказки, посылал свои заметки в районную газету «Маяк Палесся». )
Вторую свою роль я сыграл на новогоднем вечере, проводившемся в освобождённой от столиков школьной столовой. В школе заранее было объявлено, что будет защита карнавальных костюмов и лучшие получат призы. Видимо, мне уж очень хотелось получить приз. Решил сделать и защитить костюм… старухи Шапокляк! Именно старухи, а не какого-то почтальона Печкина. У своих родственников и знакомых одолжил цветастое платье, бусы, женские туфли самого большого размера (размер ноги у меня-то – 44!), сумочку-ридикюль, очки в толстой роговой оправе, а седой парик соорудил и пучка льняных волокон (где они нашлись – память утаивает). Перед вечером закрылся в классе химии и стал облачаться в придуманный костюм. Когда вышел на публику и скрипучим, как мне казалось, старушечьим голосом стал звать свою крысу Лариску, искать её под новогодней ёлкой и в других местах, дети смеялись и визжали от восторга. Такая реакция ещё больше завела меня. Закончив защиту костюма, наблюдал за другими выступающими. Когда объявили итоги конкурса костюмов, выяснилось, что я разделил призовое место с Таней Стукач и Леной Ятченко, которые на вечер пришли в эффектных костюмах ярких бабочек и изобразили их танец.
Пришла пора выпускных экзаменов, и я временно поселился у дяди Миши. Он с семьёй в те времена жил в доме, который стоял на одной из улочек, от которой совсем недалеко находился Днепр. Экзамены сдал не совсем хорошо – в основном на тройки. Расстроенный, даже не пошёл на выпускной вечер и аттестат забрал позже.
Учась в Комарине, познакомился с библиотекарем Екатериной Михайловной Федяй. Она и стала моим первым наставником – благодаря ей я полюбил профессию библиотекаря. Именно по её рекомендации и совету отца я пошёл учиться «на библиотекаря» в Минский институт культуры. Но это уже тема отдельного разговора.
Помнится, Екатерина Михайловна пригласила в школу на встречу с читателями вдову автора исторических романов Владимира Карпова, который когда-то учительствовал на Гомельщине. Вдова приехала в сопровождении нескольких белорусских литераторов, среди которых мне запомнился только Микола Гроднев, уроженец Рогачёвского района. Подробности встречи память моя не выдала, как я ни пытался вспомнить. Когда Екатерина Михайловна ушла провожать гостей, я зачитался в школьной библиотеке и не заметил, что меня закрыли. Был вечер накануне выходных, а значит два дня предстояло просидеть в библиотеке без воды, еды и туалета. Позвонить куда-то, чтобы меня вызволили, невозможно – в библиотеке не было телефона. А привычных ныне мобильных телефонов в 80-х годах в помине не было. Началась паника. Некоторое время я стучал в дверь, надеясь, что сторож услышит шум и придёт на помощь. Но этого не произошло. И тогда сел на подоконники стал смотреть, как сгущаются сумерки за окном. Но случилось чудо: Екатерина Михайловна, видимо, уходя из школы, увидела светящееся окно в библиотеке и меня на подоконнике. Я был спасён от заточения!