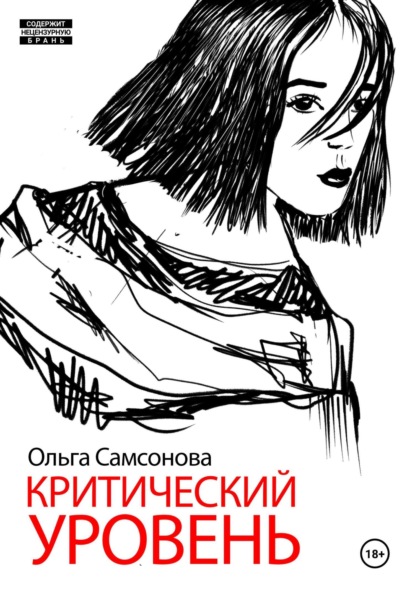Переливы Парсеваля, вальсирующего на ледяном рояле
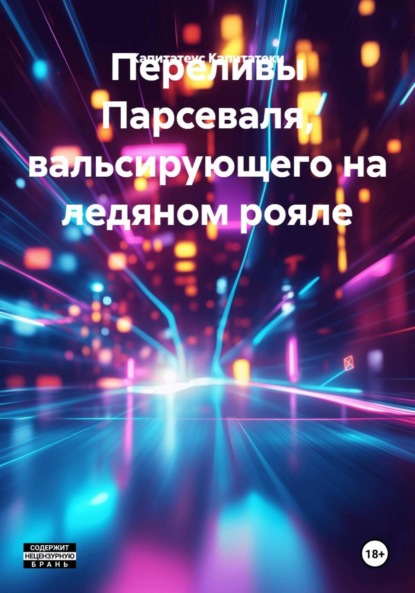
- -
- 100%
- +

Переливы Парсеваля, вальсирующего на ледяном рояле
№ 1
Мы откладываем протяжный мёд жизни с учётом чечетки бухгалтерских счётов, стараясь отвлечься от темы. Не оборачивайся. Позади бульдозерный Валтасар расчищает завалы для пинг-понговой пустоты. Наш переменчивый окуляр не оставит органную розу, окунавшую в воду латунь. Выйдя из хаоса перелеска, мы увязнем в падьевом мёде. После нас будут плавать в воздушном пространстве перьевые песни добровольных вагонов. Но что делает господин паразитов? Он пишет лунными бликами письма магнитному полю. Оно отвечает ему сквозь комодную втулку пыльным дыханием Ктулху. Но не раньше, чем сыграет арпеджио перчатка, ползущая из печи.
Что это? Хлопок парты открывает ворота в звёздный октябрь. Зимний пар патриотов доставят в комплекте с утробным дыханием лошадей. Им дела не будет до дня нашей смерти, когда царедворец потира сотрет с толоконного лба банный пат. Ты будешь стоять у кораблекрушения колыбели, и тот, от кого всё зависит, будет клеить кружево из сплющенных пауков, полагая, что это важнее для непостижимого мира.
Мы хотели жить наплаву, чтобы доплыть до плаванья, а потом тратить деньги бесконечного банкомёта. Почему бы нам, аистам, прямо сейчас не скоротать время жизни, наблюдая за жизнью артистов? Бриз качает на море велеречивые свечи, расставленные Луной. Мы играем в балет привидений, еле упоминая касанием переливы и ливни полеглой листвы под стогами словесной осоки. В полуденном мире гремят ордена на подряде знамён. Перлюстрация солнца за хрусталём забывает водные знаки на вилах и наши слёзы на тетиве. Мы пишем угольные легенды, макая перья в древнюю нефть, и угарный Гарлем питает ими свой дым.
Пригни голову. Шлем Олефина, окруженный зеркальным Оливером, налету рубит саблей картофель. Скройся в реке, и пастораль Мефистофеля станет перебирать тебя струнами арфы на магистрали. Это лучше, чем слушать в пьяном вагоне рельсопрокатную парасоль стаканного стусла.
Погружённая в ледяной трон королева заметит, что на закатном снегу розовая перистиль перегасла. Осколок колодезного льда она возлагает на пьедестал, там он станет железом. В распотрошённой Европе, припорошенной перьями снега, слышит она грохот бильярдных Белградов и ржавый гаражный жаргон. В игольное ушко втянут её за влюблённые гланды, чтобы распять на сковороде катастрофу электрического бифштекса. Она хочет знать предсказание верхнего замка. И вот чёрное озеро реагирует на утопленный аппарат дирижаблем измятой волны. Вечереет, с балкона она слышит крики критиков над испуганным кладбищем, окруженным городской свалкой. Кажется, небо чернеет от сажи, и витает в нём черная пересаль Костанжогло.
В полынье ценностей иссякший шприц тронет взволнованным перламутром аттракцион медицинской воды. Войдя в нулевой, он выйдет наружу в восьмой. Соберутся вокруг по-зимнему хладнокровные звери, чтобы вылечить раздробленную лихорадку нашего здравого смысла. Вот, они извлекают продолговатые камни из горла катящегося ручья. Они сортируют сиреневые дымы и по стуку отделяют рассудок от предрассудка. Они перемешивают погребальные винегреты осенней листвы и за ними бессонно следят капиталисты апрельских капель. Они прокрались по хрустким склянкам пристрельного перелеска, где надежда спасла мои любовные письма от шести генеральных уборок. Потом московской замазкой залепят они и это бельмо.
Зря Мстислав всех нас вчера расстрелял. На самом деле мы относились к нему много лучше, чем он относился к себе. Поэт, соблазнившийся о себе, должен повеситься, утопиться, выпрыгнуть из окна, вскрыть вены и прикончить себя героином. Он должен поджечь пианино, успеть записать токкату лопающихся струн, а потом сжечь и себя, исполняя её публично. А иначе сходим ли мы мельком взглянуть на грацильного аиста, сцепившегося конвенциальным пинцетом со стеклянным колпаком бургомистра?
№ 2
Петли патриархального снега пускает как бильярды по тротуару божественный прах. Ты не смотришь рассыпчатое кино на брусчатке. Тебя занимает немое скольжение мыслей, и ты отдаёшь им себя взаймы. Всё графини – это графины, поэтому им так важны их глянцевитые грани. Это для них зимой хвостатые майбахи выставляют выхлопные хохлы, и лохматое любопытство выливает выхухоль из уличных окон. Спустя восемь солнц вдребезги их разбивает судорога выскользнувшего оргазма. Опять липким твоим пилигримам ползти по оглохшим от снега холмам. Всё туда, к седым до горизонта волхвам. Неизбежно туда, через перевал Дятлова в Холатчахль! Там без нас на ледяных параллелях итальянское солнце гарцует на сколе стекла, и стеклянная смерть стучит о стеклянный стол костями стеклянного же домино.
Вам там мёрзлым, воевать с вьюгами и пропитываться мужской смертью. А у нас в Куршевеле шумный дождь опрокинул в шипящий дуршлаг перемешанную вермишель. Телевизионный Перикл зовёт нас в лазоревый лес переизбрать изумрудную бирюзу. Но сумеет ли он бесстыдными танцами воссоздать останец? Слышишь, он уже тщательно начищает карбид. Он занят на кухне прокачкой дымящейся чакры.
Хочешь блистать под дождём глянцевитого солнца? Хочешь свисать на ЛБС быстрым свистом Венесуэлы? Желаешь стать прозрачным для лучей смерти как коронарный вегетарианец? Но он годами под болотным дождём тропил дымного лося в осиновых дебрях. И столбом погрузился в трясину. А уже на краю наклонилась голова молчаливого зверя, и ухватил он рога.
Чувствуют ли табуретки боль гамбургера, когда прицельными очередями в них стреляет трактир? Чувствуешь ли костями боль искалеченных перестройками стран? Кто сострадает ранам рваной бумаги? Каждый четверг пауками расползаются у одиночества под одеждой чёрные черновики. Но телевизор сам себя не посмотрит, пиво себя не выпьет и бутерброды сами себя не съедят. Запорные пробки шампанского в кучах скорлуп от фисташек должны к вечеру пропылесосить леса и выложить тропы бельевым чистым лавашем. Иначе начальственный слон вознегодует в посудной лавке. А кастрюльный по барабанному камбузу разметает пинками дробомётные установки.
Но ничего не случается слишком. Утешит нас Михаил большой мешковатой лапой. Затем нас прищурит поразительный блик, когда созвездие кастеляна, едва соприкоснувшись с Версалем, оставит звон ледяной вилки. Впрочем, ролям королей по душе навал карнавала в начале таянья льда. Там на радость народу регулировщик жонглирует берцовыми костями обольстительных хвастунов. Сослагательный маг исповедует петушиную голову в ларце гималайской соли. А вот и я не к месту суюсь в суету сует, такой весь в штемпельной шапочке перепачканного почтамта. Отряды мордатых бурятов несут вдоль по улицам кавалькады золотоносных цепей. Хребтами складчатых гор бугрят одеяло кроты вокруг Воркуты. По скользкой волне быстро соприкасаясь летит полуденный медальон купальщика. А отраслевая русалка, полная сырости огурцов, водит гребнем по водорослям нежного половодья. Ей интересно узнать, о чём так просторно трубит водоизмещение каботажного пароходства? Но её отвлекает губами полоумный телёнок любви.
Хрустальные бусы принцессы ловят блики тефлоновой лампы синим вечером в летних Сокольниках. Она склонилась над этой книгой, и невидимый на поплиновом фоне павлин опахалом колеблет воздух. Дворец Гогенцоллернов за зеркальной оградой никогда не узнает сквернословия выдранного гвоздя. Им чужда вычурность перекрученного червяка. Пути их капель не любопытны. Капустные интересы редиса едва ли прельстят блеск их глаз. Им докладывали на литейном трамвае около Охтинского моста, что вместо сигнала в автомобиле владыки кричит голодный пингвин. О, Боже! Какая пошлость! И я с ними бы согласился, но есть те, кто читает умом, есть те, кто читает глазами, и есть те, кто умеет читать ушами.
ДОБРОЕ ПОСЛАНИЕ К ЭЛИЗЕ
Здравствуй, Элиза! Я мало знаю о вас: вы женщина, вы чем-то давно, но не мучительно больны и живете вдали от Москвы. И ещё – вы следили за моими постами в социальных сетях, возможно, из вежливости, раз я ставил лайки под вашими. Вы человек практичный и ждете от книг подтверждения смысла, словно ещё от него не устали. Вы спрашиваете: зачем всё это? М-м… А и вправду – зачем? Причина в людях, которым мои словесные коллажи нравятся. Они в меня легкомысленно и непостоянно влюблены, как влюбляются не лично, а общественно, например, в знаменитость. Я и сам удивился, когда нашел людей, кто читал меня с наслаждением. Что ж, в том, чтобы прожить три минуты в удовольствии, всё же больше смысла, чем прожить их вне удовольствия. Единственное, что меня беспокоит – эти люди могли бы потратить то же время на чтение великой литературы. Но, с другой стороны, жизнь огромна, времени хватит на всё.
Как сказала одна из моих читательниц, ей нравится «удить» в моих тестах – она что-то выуживает и открывает для себя и в себе то, что её удивляет. Порой я сам возвращаюсь к ним, и мне они кажутся небездарными, и я, как и вы, удивляюсь, почему всё это писал. Между прочим, хотя это совершенно неважно, часть этих текстов издана в литературных журналах. Представьте себе, Элиза, есть и такие журналы, а у них есть и такие читатели. Люди пестры, как пиастры, лучащиеся на люстрах.
Вы попали в боль мою: я боюсь публикации. Страдаю, когда мужики и бабы эти тексты называют бредятиной, а меня – психом. Они как мальчики вспыльчивы и запальчивы. Настоящий психоз сопровождается деградацией, и опытный психиатр отличит безумие от игры – хотя бы потому что не найдет здесь рассогласования падежей. Сумасшедшему, а таких я встречал, наплевать на всё, уж на грамотность и подавно. Поэтому, если у вас мои тексты вызывают неприятное недоумение, обойдите их стороной. Так бывает, если вы – не мой читатель, а я – не ваш писатель.
Но если ваш вопрос не упрёк, а любопытство, то я готов объяснить. Видите ли, Элиза, людские потребности неоднозначны: есть уважительные, вроде потребности в еде, крове, здоровье и безопасности, а есть уважения не особо достойные – типа модной прически или оригинального покроя брюк. Потребность в искусстве, конечно, не основная. Поэтому литература важничает, обещая, (о, порой весьма успешно!), стать людям чем-то вроде духовного хлеба. Такая литература пропагандирует большое «Надо», убеждая читателей, что есть смысл изменить в соответствии с великими идеями свои жизни. Идти на войну с врагом, или беречь семью, бороться со злом, или следовать за Богом и т.п.. Но есть искусство без пропаганды. Спросите себя: какой смысл в узоре на ковре? Он не призывает уважать политический строй, не зовёт любить ближнего. У него нет ни идеолога, ни идеи.
Вы уже поняли: я лгу вам, отводя себе роль рисовальщика узоров на тёмной воде. Похоже, за всю мою жизнь я несколько раз становился, но так и не стал человеком идейным. Поэтому литературу любил за словесное мастерство, искусство выделки, то, что писатели великих идей называют выкрутасами и трюкачеством. Вот я и выделываюсь. И единственная моя «большая» (или, если хотите, больная) идея – полнота свободы. Я создаю винегреты из слов, перемешивая, что не смешивается, и сталкивая, что не сталкивают обычно. Всякий раз получается текст, удивляющий меня больше, чем кто прочтёт его. Кстати. Только что из слов «игра» и «винегрет» я сложил слово «вин-игрет». Не удержался. Потому что себя не удерживал. А вы, Элиза, удержали бы себя даже раньше, чем поняли, от чего, собственно, следует неукоснительно воздержаться.
Ещё одна причина – зачем всё это? – в том, что от выкрутасов, которые я не смею назвать творчеством, мне становится легче. Жизнь обошлась со мной жестоко. Скорее всего, я того заслужил – но сознание, что в моих несчастьях есть смысл расплаты, делает жизнь невыносимой и заставляет меня молить о скорой и лёгкой смерти. А пусть иллюзорный, но выход есть. Отказаться от идеи смысла вообще. Нет смысла зарабатывать, и нет смысла тратить. Нет смысла любить, и быть любимым тоже. Нет смысла в друзьях, и нет – во врагах. Смысла нет в пропаганде великого смысла, и в пропаганде отсутствия смысла – нет. Существует лишь человек, и его существование не нуждается в оправдании смыслом. И это, по здравому размышлению, весть благая, потому что тогда нет смысла в расплате и наказании. Есть только абсурд и несчастный разум, не способный с этим смириться и поэтому мучительно страдающий от того смысла, до которого он вознлсит окружающий, да и свой внутренний хаос.
В моей жизни было время, когда я, сам не зная о том, был счастлив. Это до-языковое детство. Мама моя, очарованная мной, записывала мои глупости – её умиляло, как я осваивал русскую речь, уверенный, что слова, похожие по звучанию, должны быть похожи по смыслу. И с тех пор ребенку внутри меня мерещится улыбка мамы, когда собираю из слов бессмысленные гирлянды звуков, переливающихся красиво, если подсвечивать лучом разума. Да, я давно уже большой взрослый. Но этот взрослый, как детская пирамидка, состоящая из нанизанных колец, состоит из своих возрастов. Все возраста моей «пирамидки» несчастны, и только самый нижний – счастливый. И вот, я закрываю глаза, и несколько раз произношу слово – к нему лепятся другие, иногда возникают образы и даже сюжеты. Видимо, это процесс литературного творчества, только без литературного результата.
Но если вам от этих слишком белых стихов (или слишком черных черновиков?) хочется пожать плечами, и даже больше – принять срочные меры, то это хорошо тоже. Значит, такой тип литературы вам позволил определить ваш способ дружить с умом. А то, что вам моё творчество не понравилось – так ведь я не распахиваю дверцы радиофицированного автомобиля и не принуждаю квартал в три утра слушать то, что вам показалось белибердой. Обойдите меня стороной, как говорил кто-то из братьев Стругацких – с доброжелательным равнодушием. Я вам не враг, и больше – готов предложить дружбу. И я пойму, если вы откажетесь её принять.
ЗЛОЕ ПОСЛАНИЕ К ЭЛИЗЕ
В Тарабарии тарабарцы не говорят человеческим языком. Несут всякую тарабарщину, и, что странно, понимают друг друга. Видимо, с нашим уровнем понимания нам никогда не понять, что они понимают под пониманием. Читатель в Тарабарии – враг. Он отвратителен, как нога брадобрея. Он неподвластен, как порез десны истаявшим леденцом. Он похож на залипание в центральной складке на языке щиплющей ниточки табачного дёгтя. Писать ему письма – вдоль лизать край бумаги. "Это уже лишнее серебро, Тимоти", – сказал Тимофей сам себе. Его кота переименовали в девятый раз. Теперь его зовут Винстон. Но кот не заметил. "Люди!.."
Он даже не издевается – он такой генетически, и того хуже – онтогенетически. То есть, ортогонально. Таким его сделал Бог, Судьба, обстоятельства места, времени и безобразия действия. Арго организует организм в соответствии с организмами носителей Арго. Вчера гравитация стала ещё слабее, вероятность взлёта вниз головой больше падения вверх ногами.
Солнечный ветер сдувает водород из верхних слоёв атмосферы. На душе неспокойно. А тарабарцу плевать. Предисловий не читает, послесловиями пренебрегает, любит пустоты между абзацами и обожает картинки. Чаще всего можно застать его в вомитарии. Он выражает там отношение ко времени, да и к себе. Тропинки, по которым я гуляю давно, он так и не протоптал. Хотя, допускаю, тропинки были, пока их не завалили слоновьей дресвой. Там теперь всё уже заросло: грибы по колено, травы по горло, камыш по три метра. Не бойся слонов. Они очевидны. Бойся крадущихся барсуков.
Сегодня барсуки соберут чемоданы и положат только лишние вещи. Что мы знаем о барсуке? То, что он – не барсука. Товарища не продаст! Он воображала, потому что придержал за пазухой жало, и воображает, что имеет право бытия и события, суждения, осуждения, сомнения, мнения, знания и сознания. Кроме права быть всегда правым, у него есть и право налево, шиворот навыворот, кверху дном, шагом марш и вообще – да пошёл ты. Имею право хранить молчание. А спроси его: "Вспомни свой первый детский каприз, то есть, час, в который ты осознал, что эта твоя обида – каприз?" Не вспомнит. Не осознал.
Книга поэта равномернее колбасы, и смысл выпадает оттуда как плоский кленовый листок, если открыть наугад. Гады в Уганде всегда открывают наугад и книги, и спичечные коробки. Благотворительность сделала их немного нервными. Вот руки у них и трясутся. В их ноябре революция сплющила капсюль словно крышку от лимонада на рельсе расшатанного трамвая. Теперь даже холодный твист анархиста-теиста на выхолощенном в рисунок лингвисте знает, что поздние листопады любят шляться по Битцевским паркам с призраками насвистывающих битлов. Ему повезло больше: досталась цепкая память. Но есть и досадный минус: пришлось стать алкоголиком, чтобы хоть что-то забыть.
Черные дыры размазывают всех нас, трёхрублёвых, до наших двухмерных портретов, растянув по горизонту событий самым тончайшим из тонких слоёв. О, как ты бываешь красив, проклятый, когда тебя проклянёшь! Ты начинаешь сжигать меня хуже, чем с конца и даже не с середины. О, ты более, чем божественен! Ты случаен. Сегодня неделя Емели, он может начать с напалма. Оглавление он обезглавит по праву прихоти из-за перхоти. Он забывает всё раньше момента запоминания. Как огонь, он не возвращается к тому, что сжёг. Он хуже Корсакова: он синдром его. Страшнее Малевича – он его К.
Спроси дрожащую тварь № 6: «Эй, убожество божье, как впервые ты понял, что беззащитен?» Похоже, сейчас. «А когда понял, что и я беззащитен?» Похоже, сейчас. «Когда же поймешь, что встретил здесь тех, кто несчастней БГ, и просишь тебя осчастливить?» Похоже, сейчас. «Тогда почему?» Потому что ты один в мире знаешь спряжения русских глаголов. Ты могущественен уже в силу бессилия: ты не знаешь могущества своего. Ты даже не пробовал, следовательно, ты как рыба-луна в лунном море Спокойствия, не знающая, что она – Луна. Осознание – это утрата.
Не используй они тебя тогда, как бы ты понял, что ты полезен? Ладно, чего ты как чайник. Не кипи злобу.
№ 3
Голод давно оступился и отступил. Только логика голода цивилизацию никогда не отпустит. Вот и сегодня телефон Леннона плавится и плотами плывёт по долам и долинам. Так почему бы и нам, малиновым королям, не забыться забавами бытия? Вон, смотри, стоя в саргассовом море мерцательный сарацин размашисто косит дожди. Рядом на колеблемом корабле отрицательный царь электрических ламп расклинит в пятницу лезвием скрип каюты. Но его босая ватага будет неблагодарна деревьям за их деревянную доброту.
Люди распахнуты и наотмашь опасны. Лишь повороши в камине золу, и отыщешь доступ десятиклассника к колоснякам. Ты не брабансон и не ши-тцу чтобы на площади тебя пощадили щипцы. Ум – тюрьма, безумие – это свобода. Облепленный аплодисментами премьер-министр нажмет на черный рычаг как на педаль хэш-слеша. Поливальный боярин смеётся. Плачет мокрый купец. Это только у нас повивальная вьюга сносит свистом рождественский визг. А у тёплых бояр ломятся от запасов полные золота бархатные барсуки.
Так и должно было быть, говорят нам часы октября. Мы замедленно внемлем. А потом остановимся, замрём и сделаемся ноябрём. Мы созерцаем зеркальные колокола в неподвижно музейном такси. Медленнее медовой струи проступает на медном маятнике влага казни. У монолита, излитого каплей томила, найдётся место для вздоха. И ответит ему колыхание полиэтилена в растворённой настежь весне. Радуйся, радуница! Сегодня снега головы снова помилуют милосердие красных каминных часов. И опять деревянное масло Татьяны слоями покроет числа солнечного листопада.
Мне надо найти в покинутых залах эти странные струны пространства и пройти через них как сквозь дождь. Бог – это каменный памятник богу. Давай вместе выламывать благо из камня монолитом молитв, слушать сердцем непробиваемый стук изнутри, видеть облитые блеском пули и рисовать надежды грацильными пасторалями вымытого окна. Плавая в непотопляемой темноте, нас услышит пролёгшая поперек звезд кантата натянутого каната.
Ты будешь смеяться, но ручей наших снов, нигде сливающийся в никуда, нынче ночью нас уведёт не в ту степь. На площади древности, где серьга и цинга отплясывают чечётку на голодных камнях вместе с россыпью девальвированных монет, скуластая королева отломит кусок Берлускони. С ним в руках, намоленных до сияния святости, путем пилигримов войдём мы в долину золотых валидолов. Мы нальёмся тяжестью слитков и погрузимся в дольные сны. Ради скворцового скерцо или просто для уступчивой передышки мы остановимся на обочине и мимо промчится Майбах, обдав нас шум торгового зала. А ещё мы будем слушать в доменных вагонах железные пляски лезгинов, но дерганье судорог нас не разбудит.
В приморском доме солнечным утром белый омуль будет трепетно плавать на известковой стене. Там белопенная Афродита всегда исчезает в невыразимо шипящем песке. А мраморные наблюдатели сквозь колебание водорослей следят за уровнем аморального моря. Слепящие солнечной ясностью любовники и любовницы соскальзывают по тангенсам и параллелям колеблемой небом воды. Хоральной ночью в наших глазах мёртвым сумраком отразится блеск созерцания из сознания звёзд.
Молодые друзья накажут тебя одиночеством старика в церкви чужого бога. Хруст трудностей недолго будет слышать твои ночные шаги. На границе гулкого небытия кукушкин лес позовет нас коротать бертолетово лето.
Где же Катеньке побывать: в Бразилии или в Вообразилии? Гм-м… С одной стороны, красота меняет полицейские лица босого ливня – как ракурс бесцветного хрусталя меняет цвета. А с другой, в злостном от стиснутой тесноты Вьетнаме нас отвлечёт от маленьких человечков послевоенное полотнище водопада. Сестра, ты ищешь путь за порог тюрьмы, но с шара нам не сойти. Безболезненное безумие как занавеска, влетевшая в комнату из окна, протянет обширные флаги победы над болезным нашим умом.
№ 4
Абырвалг Арбо-гастерс был настолько плохим человеком, что не нашёл себе применения лучшего, чем стать донором крови, плазмы, костного мозга, и хвалить каждого хорошего человека, бегая за ним попятам. Иисус говорил ему:
– Никто не отыщет в себе недостатков столько, как ты. Никто не томится ими как ты. Никто не желает стать лучше так сильно, как ты. Побольше таких бы!
«Нет, я плохой. И покаяние не улучшает меня, но лишь убеждает – я самый плохой человек». Христос спорил с ним. Но не смог переспорить. В итоге Иуда доказал свою правоту.
Впереди у Борма Токстера глухота, облысение, рак простаты, если не опередит его рак желудка или непонятная хрень. Например, желая творить добро, он, не дожидаясь, будет лично опорожнять общественные урны, и как-то раз оттуда неуловимым прыжком выскочит и ужалит его в нос щитомордник. В новой жизни его ждёт равнодушие разлюбивших детей. Коварная дочь Клементина-3,141 из мести за дурацкое имя что ни день будет счищать ему в суп оксиды свинца с рыбацких грузил. Кстати, именно грузилом он угодил ей в голову на рыбалке, когда неуклюже размахнул спиннинг. Круг злодеяний замкнулся. Иуде иудова смерть! Теперь Карбогастер вместе с отравленной печенью умирает, ворочаясь в луже поноса.
"Тишины! О малом прошу – дайте умереть в тишине!"
Но коварная Клементина-3,141 как в рукава проденет руки в суставы водосточной трубы, чтобы аплодировать его бесславной кончине.
"О, это шум дождя! Плохой Абракадабстер благодарит тебя, о, хороший Бог!" – изловчится хитрый иуда. И Клементина будет сначала удивлена, а потом и вовсе посрамлена!
В следующей жизни ждёт его отсутствие славы и даже дружбы аквариумных аквалангистов. Коричневый бадминтон научит его курить говяжий помёт и навоз птиц. А потом его убьёт боданием коза Ностра. Длинными стеклянными пальцами алюминиевый Анатолий будет читать водяные знаки в письмах королевы Елизаветы, всё дальше уходя в самшитовый лес на лыжах из оленьего мяса. Все забудут даже имя Аброгаста, Его кладбищенский памятник станет сортиром ворон, куропаток и львов. А в эпитафии сделают семь опечаток. Кроме того, землетрясение разорвет его скелет пополам, а грунтовые воды растащат по разнообразным районам погоста.
В следующий жизни Бургомистерса заставит верить, что он очень плохой человек его беззащитное одиночество, издевательства ни в чём не повинных злодеев, хулиганов, бродяг, решительных убийц, непостижимых самоубийц, красноперых хулителей Бога, потерявших интеллектуальные интересы ещё в школе после конфликта с учителями, носившими в соответствии с рангом на голове пилотки-нопасаранки, деревенские чугунки, лыжные шапочки с наэлектризованными помпонами для притягивания молний в грозу.
– Зачем ты поверил, что ты – плохой человек? У плохих людей не бывает такой приятной улыбки.
– Ах, не отговариваете меня! Не надо!
– А что у тебя с глазами? Ты плачешь?
– Нет. Просто здесь слишком ярко.
[Убегает. Из-за кулис слышны рыдания.]