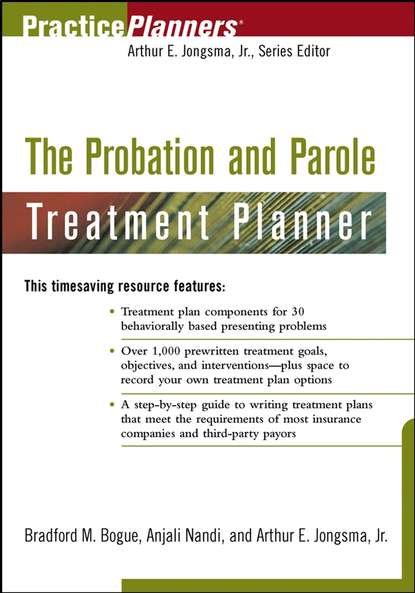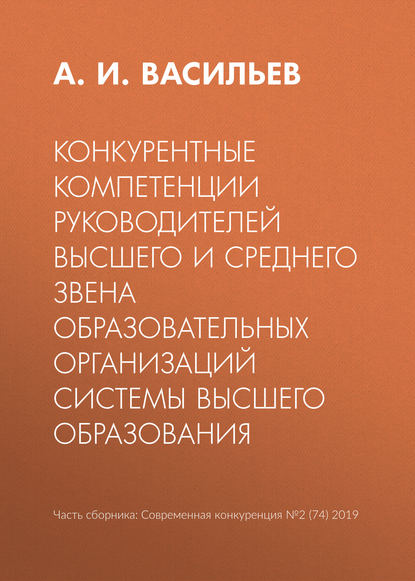Переливы Парсеваля, вальсирующего на ледяном рояле
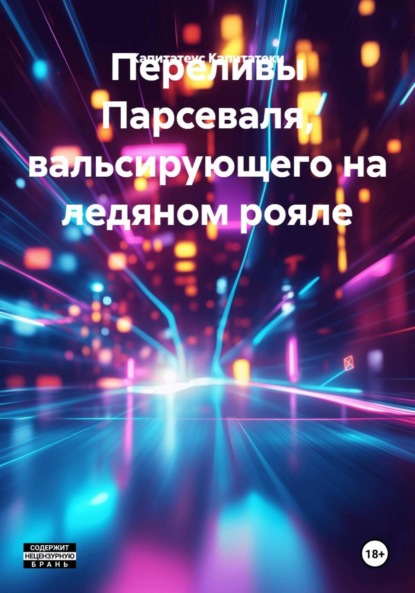
- -
- 100%
- +
[Выбегает на сцену. Кидает бомбу в зрительный зал. Стреляет в публику из пулемета «Микроган» – с вращающимся блоком стволов, разработанного американской компанией General Electric и испытанного в конце войны Терминатора с видеосалонами.]
– Теперь-то вы убедились, что я плохой человек?!
[Занавес. Если останется кому опустить занавес.]
№ 5
В ту мглистую ночь Энергетическое Намерение колебалось как воды в резиновом шаре, чтобы выругаться молнией небесного сквернословия. Как всегда, расставив чёрные свечи по углам пентаграммы, аргонавт, космонавт и психопат-самоучка занимались добычей каменной сути, пытаясь опять растолочь воду в ступе бабы Яги. Спящие мыслят легко и свободно, пока не дадут высокое напряжение, и мысль сменится работой мысли.
Выгнав роботов из тронного зала, Король Малиновых Балахонов и лирически падающих осенних балконов снова пытается эклампсией жёлтого электричества вылечить от каталепсии деревянные стулья. Тем временем дворовые девки распотрошили гения нечистот и черпают из его черепа сахарную труху творчества. Холодно смотрит на них с окололунной орбиты особый дельфин. Как яйцо или шарик пинг-понга он родит ртом и плюнет в них финальный стафилококк. Напрасно пытается их предупредить застёгнутая на петельку пустельга! Бриллиантовый творец изумрудной скрижали уже приступил к преображению их отвратительных аур в цветы парадиза заморского сада. Уволенный им на незаслуженный отдых маркиз на залитом лунной водой паркете скользит по залу вальсирующих сомнамбул.
Обсидиановая голова сотни лет на опустошённой Луне автоматически печатала магию копировальной бумаги. Но сегодня небесный Определитель отключил бесполезное лезвие опреснителя наших страстей, и всё, что могло помешать тишине вслушиваться в глухоту, присмирело. Да и нам с тобой надоело глотать галлонами вакуум. Пойдём, посмотрим, как мыслитель заставляет мысли работать, и они работают вместо него. А когда надоест и это, съездим в парк пострелять из страйкбольного пистолета по белым эталонам академии идеальных роялей.
С тобой всё хорошо? Как-то ты апоплексически покраснел, будто отсветы костра инквизиции легли на лицо. Почему ты стонешь? Знаю я. Это заклинание долголетия заклинило в ларингоспазме голосовой щели и просит самовыражения рвотной массы. Что ж, этим всегда кончается созидание прорезиненных манекенов около озлобленных звёзд. Не торопись умирать. Неуловимый улов холодных огней светится в колбе воды, стоит лишь двинуть глазами.
Ты превращаешь мышление в труд, стоит тебе проснуться. И даже закрыв глаза, ты видишь красный порез рутины. А если взвить её шумный занавес, ты увидишь: Константин Кастанеда ведёт по пустыне тургруппу скелетов, оставляющую на песке следы древних птиц. Если бы их высохшие черепа могли думать, они бы питали иллюзию граффити на вечной стене Неприступности. Что за мода – оставлять после себя всё то, что помешает потомкам оставить после себя всё это?
Наша пьяная муза мычит и перевирает высокую музыку сфер. Офицеру приказано её не тревожить. Муза целует его тонкие губы, отстраняется, плюёт в лицо и зловеще хохочет. Сферы продолжают звучать как буддийские чаши из колокольной бронзы. Тонкие и липкие планы оборачивают Музу сусальным золотом и пыльцой бабочек. Энергии носятся, тут и там, сгущая пространство до трёх событий в двух точках. Процесс сцепляет звенья до нерасторжимого растра заполярного снега. Он приближает к Земле то, что движется в вазе воды, если движется взгляд. Создал, воссоздал, воздвиг, ниспроверг, отверг – его тектонический сдвиг преобразит безумие в подвиг. И вот, смотри: из нагромождённых громад бьют по радуге водомётные струи! Их лихое мятежное эхо откалывает отклик от падающего без опоры пространства.
Светлана, не ласкай меня светом церковной свечи. Хочешь совет? Займись чем-то полезным. А лучше чем-нибудь бесполезным. Да. Бесполезным – лучше. *
* Беда с людьми в том, что катастрофы пугают нас не только до того, как случатся, но и после, заставляя переживать их как упущенный шанс снова. Разум насилует психику, потому что не может забыть, и кошмарит напоминанием страшной ошибки даже во сне. Игры в безумие, попытка писать как бы спящим, дозволение словесного промискуитета, словоблудия, когда словам позволено гулять от законного смыслового брака с кем угодно – это шанс нырнуть за глотком абсурда, когда жажда смысла тебя убивает. Опять же, Капитатеки успокаивает роль философа, позволяющая в пучине невроза пребывать наплаву. Накопление ресурсов согласно общему мнению имеет смысл. Но как лишь начнёт хватать, придёт тот, кто их обманом похитит: брокер, жена, дочь, сын, СВО, инфляция, оккупация. Так что в итоге жизнь смысла заканчивается одиночеством, кошмарами и досадой на предательство близких. Поэтому всё бесполезное лучше. Не будет больно в итоге.
№ 6
В просачивающиеся пятницы ближе к семи вибрирующий Джиббериш собирал любителей сладкой словесности месить лотосовых ловеласов в патоке и тянучке. Тем же вечером седьмого леопарда 2025 года совсем рядом – в Школе калошного шоколада Рыцарь в кевларовых доспехах откусывал пироги капканом схлопывающегося забрала. А мы собирались смотреть на событие пустоши и производство заката раскаленным до красна горизонтом.
Тракторную духоту пыльной пустыни ветром принёс картофельный Улан-Батор. Но к ночи похолодало, когда мы вышли из дома в лающую собаками ночь зафиксировать астральный изолятор на хрустальной схеме стеклянного скелета. На сером от звёзд небе чернели старательные тополя народных хозяйств. Егорьевский водопад перерабатывал камни парольного трала и сливал космические воды в рольный зал, нервно работавший над отраженьем пяти Лун. Справа воробьиный ручей строил дорзальные гримасы железному дровосеку, увязшему в мокром суглинке. Сам виноват. Он думал, что написание книги придаст хоть какой-то смысл жизни. Человек утешенный послушен начальству. Вот культура и нашла себе место в процессе воспроизводства производственных отношений.
Не думай о смерти, о ней думают все. Думай о загадке Раскольникова, раскалывающего топором череп за черепом. Кстати, поразмысли, почему сверх человечность доказывается предельным злом, а не предельным добром? Потому что иначе карательный мотороллер с грохотом прокатится по изголовью. И заберет тебя в глубины полиции, где батальный шалтай-болтай ещё и поиздевается. С тройным подбородком многотонный брудер, чавкая и источая слюни, хомячит там супергамбургер плоти и крови. К нему в сумерках крадётся бактериальный принц с иглой цианида. Но чтобы стать царём обезьян, надо создать государство. Сдай экзамен на царственный брак. Станцуй длительный вальс на полу, покрытом слоем катушек от швейных ниток. И лучше не знать тебе, как Принцесса алмазных дворцов высасывала ортофосфорного андоррца, инъекцией плавиковой кислоты растворив его изнутри.
Он обжигал пальцы о катаральный рояль закипающих клавишей. Он включил сигнализацию, войдя за контрольный ноль. Он ощутил на себе деспотию своих поступков. Он хлестал себя веником из банных тюльпанов и сизалевая прохлада испарялась при запахе его кожи. Но лишь в игры вступал термаламовый шлафрок, катафалк скатывался в бокальный уклон, и тащил за собой струйный прицел прецессии.
Тогда он высекал искры, чтобы поджечь биссектрису морской сырости и плащевого дождя. Но власть сладости не одолеть даже трёхдольным понедельником. Текстильные околесицы консольных спиц Себастьяна даже Диоклетиана заставят установить базальтовые станки на лестничных клетках. Теперь эластичная кожа на топологии его тефлонового плафона покрыта термоплавким аэрозолем. Он думал, это великое благо, но был обманут надутым батутом. Так они лишь облегчили себе его взрывчатый самовывоз.
Они били его календарными канделябрами, выбивая белиберду и бараньи мозги. Пыльными струями из него вылетали фуляровые очки и чесучовые стручки клопового перца. Из носа и рта выкипали наружу шалоновые пузыри, но всякий раз, лишь он вспоминал шаланды ландышей… о, шевиотовый коктейль, вытекая с затылка, обтекал каждый его раскалённый нерв.
На что не идут люди от скуки. К примеру, колоссы на колесницах заплетали косы друг другу в ручьи апреля, наслаждаясь то сосульками, то леденцами. Но брутальный народ осудил их и расколол им головы, кажется, кочергой? Или каторгой? Короче говоря, Достоевским. Откуда было им знать, что по пятницам в кабинках алюминиевые тела замороженных роботов сквозь прицел изучают концессию Касабланки, а потом, даже не перешептавшись, принимают шифоновый душ волшебства? Искры прыгают по их телам, стекают зигзаги электрических разрядов, потоки отрицательных ионов струятся по блаженству их кожи. Пусть и вам будет славно и дивно.
ВТОРОЕ ЗЛОЕ ПОСЛАНИЕ К ЭЛИЗЕ
Я не создаю культурных ценностей. Я физически здоров и надеюсь стать долгожителем. Я никогда не помышлял о самоубийстве. Я ничего не курю. Не пью. Не принимаю наркотики. Я не выпендриваюсь. Я не заявляю о себе ни ярко, ни самобытно. Я душевно здоров, военнообязан и не состою на психиатрическом учете. Я не претендую на исследования собственного подсознания. Я не ставлю себе целью литератором стать или литератором быть, а свои тексты предъявить миру как литературу. Известность меня пугает. Я сугубо частный человек, от политики далекий и желающий быть еще дальше.
Всё написанное здесь не результат преодоления внутреннего конфликта, и не упреждение такого конфликта. Они – результат моего убеждения, что русский язык может быть источником изысканного наслаждения. Я работаю над фразой, пока мне не станет приятно. После работы над текстом я ощущаю себя ментально в лучшей форме, нежели до работы. Это позволяет мне быть успешным лектором и – как бы это сказать – подвешивает мой и без того неплохо подвешенный язык. Хотя это тоже неправда.
Строго говоря, мои тексты не являются коммуникацией и едва ли что-то значат всерьёз. Формалистические эксперименты? Возможно. Попытка изготовить ювелирку из слов? Пожалуй. Каждое слово содержит ядро образа. Я пишу о том, что я узнаю от самих слов, и даже созвучий. В моих текстах нет ничего, что происходило или было прочувствовано мной на самом деле. Эти тексты не являются результатом моей внешней или внутренней жизни. Всё случайно, и любые совпадения с реальными лицами, событиями внутренней или внешней жизни выдуманы искателями таких совпадений. Публикуя эти тексты, я не ставлю биографических задач, не жду гонорара, славы, и ничего не требую от читателей, как не стал бы требовать ничего от шкафа, положив туда рукопись. Но Ваше внимание будет приятно мне, если я странным образом вообще однажды смогу о нём узнать. Едва ли это случится: как правило, вышедший из тени не может видеть оставшихся в тени. Возможно, он и выходит из тени, чтобы больше не знать об оставленных там.
№ 7
Лет семь назад Елизавета Лесото едва ли предполагала остаться в доме журавлиной воды, где серебряные кассиры вытрясают монеты в тазы, а фаянсовые контролёры отслеживают слоистую силу гудящего тока. Риск искры исключён! Разве что корабельный корсар в неистовстве скрежета рваного дирижёра и стиснутых до атомной толщины шестерён, вскипятив кровь ярости в безумном восторге приступит к истреблению Истры. Огнём. И мячом для игры в лаун-теннис.
Бес – в ребре, из которого сделана Ева. С детства питала она влажную неприязнь к созерцанию хрусталя люстры. Её не волновал кизильный процесс зеленеющего укоса травы. И квазичастицы ела она на завтрак, ломая ломтики костыльного льда. Муж её после ковида лишился обаяния и тонкого вкуса, так что чувственно огрубел и решился на самоубийство войной. Но там давил на уши назойливый Иллинойс, и квадрокоптеры осыпали его копотью, сажей и картофельным переполохом.
Со стороны имперской Европы медленнее ледника надвигался палисандровый король в скафандре кассандры. Рядом вышагивала королева с огромным, как старинный кассовый аппарат, бюстом. Затем, надев акваланги, они опустились в водный дворец града Китежа. И вот видят они видение телевидения. Колизей ускользнул в слетевшее колесо описательной колесницы. Развлекательный всплеск исчезнет их всех.
Люди меняются, но никогда – народы. На принцессе к завтраку были надеты ласковые чулки из тончайшего висконсина. Нежно-белые винегреты её приправляли солью, добытой из столба жены Лота. Утром её пробуждали, поглаживая штапелем кошачьей лапы. А потом в покои вбегал запыхавшийся штоф с ледяной эпингелью на отливающем сталью подносе. За садовой оградой стояли на страже железнодорожные шинели и развевающиеся матросы, чтобы виола плескательного омуля в саргассовом бассейне могла беспрепятственно ласкать стеклянный взгляд Александре.
В арсенале под водопадом шептались хлопчатобумажные пороха. Листая записные книжки, они близорукостью растворяли расплывчатые адреса. Но дальнозоркий фуляр бдительно знал: их не угомонить, вешал фуражку на вкрученный футер, и рукавом стирал со лба пот. Выходил на крыльцо сбить со стрехи фриз налипшего инея. Ковшом черпал черную воду из промозглой фофудьи. Шагами колебал свислые капли на поводьях, натянутых вдоль двора. Морозные стёкла кристаллизовали его дыхание звонким шелестом розной органзы.
Не проходит и дважды осеннего дня, наступает весна. Соскользнувши с сосулек, капли прыгают как мальки в переполненной попадье. Ну, вот, дождались. Хлопок парашютного флока принёс целые кладбища пастромы, сервелатов и хризантем диверсантов. Туманные тени летают за прозрачной перкалью простуды. И, если снять шлемофон, SS услышал бы широкий флауш, разлитый по тротуарам наотмашь. Но полицейский флисс прибил к нему красный крест полициклической каплицей медицины.
У стенки готовится к казни палач. Слышишь? Войлочный сумрак прополоскал горло фольклорным пинг-понгом. Блистательный лунный лис обманул рогатого сторожа с бликовым фонарём. Ещё сорок дней в христианской пустыне раб страстей в надежде на скрежет будет двигать плиту тишины. Истерия зелёной звезды будет шипеть и шляться, как фейерверк, разлитый по тротуару прогнозом лазоревых гроз. И вот, ветер Рихарда Зорге швыряет в нас хладные гроздья Варфоломеевых гроз.
Есть люди, которым опасно становиться народом. Лучше им, погрузив чресла в кресла, смотреть, как под флагом полыхающего фламинго хвастливый фай июльского полдня переливается перламутром. А когда придёт час заката, пупсы мальчики пупсам девочкам подарят пластмассовый флокс. Имея приличную личность – не делай добра и зла. Тогда не зальёт клавесинный ливень фетровые пустыни Луны. Лишь в свете звезд нежная этуаль блеснёт на флаконе таэля. Зеркальным эхом отзовётся ей растворённая лунным лучом тюль виноградных теней в иерусалимском июле.
№ 8
Я слышал, в Центральном парке уличный театр ставит трагедию разбитой витрины. Идём? У меня есть фыркающая контрамарка с простуженно липким носом. Нас ждёт влажная вежеталь и утренний пар на капоте. Только обуйся в непромокабли. Вчера меня шмыгал в ботинках движитель дождливой жидкости. Отмашка очистит плексигласовый параллакс от слюдяных огурцов. Дождь кончится.
Ты скажешь: Эйнштейн не заметил того, что видит каждый ребенок. Взгляд между звездами движется много быстрее света. Я отвечу. «Мои слова пишет сам почерк, а набирают их воля шрифтов». Нас примирит глоток запрокинутого бельканто и грохочущее в водосточной трубе каберне. Троянская пыль в ангаре броуновского движения научила тебя искать красоту в непривычном: на границах сред, на перекрестках смыслов, в континентальных разломах. И вот мы слушаем маслянистый концерт шестерней, стук бамбука в 11 дня, и сбитый ракетой скрежет страха свободных падений. А потом забулдыга закат грубо выкрасит облака пьяной краской.
Не бойся судьбы. Ноль в ноль часов всех настигает шорох очковой змеи. Верь, минута веселья продлевает жизнь на неделю. Если, не отрываясь, годами смотреть на лица, разбитые о торты, станешь бессмертным от кондитерских судорог смеха. Ты шипишь как гашённая известь. Козёл хочет газетного доказательства? Но вот: стеклянная колоноскопия прозрачной сакли струится в ручейном воздухе по весенней стене. И не требует доказательств. Когда истечет это время, Будапешт в пригороде Ташкента выжмет на полную дайджест реактивного форсажа. Порой до дрожи желаешь, чтобы взревело и оглушило. Да на здоровье! Линия фронта полоснет тебя лезвием по глазам.
Сажа и сало экс-мэра Самары пятый год копотью ложатся на стены. Он знал пару поэтов по их лицензиям на поэзию. Документ, обрамленный кудрями ангелов и трубящими келарями, он подписал широкой лопастью киля, обмакнув его в наглазную мазь. Вкрадчиво улыбнулся губами старого казнокрада, и долго смотрел в окно. Там и поныне можно увидеть, как по склонам сине-зелёных холмов катятся Екатерины. Оголтелый телефон вынул его голое тело из забытья. Из Финляндии звонили ветки оледенелых вязов. Сквозь следы преступлений там проступает весенняя влага. Нужно срочно что-то отсрочить. В ту же секунду бикини на горных лыжах сунула под сказку подсказку. Рекламным голосом она до сих пор обещает: «Форекс подарит вам финансовые усы, чтобы мёд-пиво не попадало в рот». Мэр понял: одиночество словно щёлочь щиплет её глаза.
Из вентиляции шуршит шёпот. «Ты пишешь умом, а они пишут сердцем, тяжелым от крови, как максимальная малярная кисть». Мэр сжал в кулаке подбородок, и по глазам его можно было прочесть: «Что нас ждёт впереди, там, в скрипящей тиши мавзолея, на изгибе святого колена? Расчленение Чемберлена? Бормотание Бармалея?» А за окном печальная алыча следила как скрылись вдали бумазейные ласты пчелы. Спускай флаги, слагай слеги, полегай в постылую полынь удалённого от тебя полдня. Ласкового санкюлота не остановит никто, когда он воткнет лыжную палку в холодную стопку сугроба.
Семь раз пройдись взглядом по периметрам всех созвездий, целуя глазами святой перламутр светил. Что пишешь? Литературу сугроба. Сверхъестественный акростих, ломаясь, оставит на пальцах пыльцу сусального серебра. И к полудню сигарообразный и железнодорожный дракон возглавит гусиную осень. Лишь рассвет бросит в топку востока полено Луны, послушать крыльевой стрекот всплывает утопленный пленный, но в глазах его саранча. Поймёт ли его по краям нависающий снег озёрной маркизы? В прозрачной корзине плетеного льда она прячет уловы вчерашней печали.
В доме тьмы не восходит солнце. Ледяной потолок роняет холодцовые капли оголенного молодца. Тихо. Только за окнами плоским хвостом Мстислав выхлёстывает блеск тротуара. Вслед за ним его результаты пистолетами измеряет рельсовый дильс.
№ 9
В половине третьего жизни в затопленных залах тюремные лабиринты триквела полны деревянных зеркал. Исхлёстанные до костей кунсткамер полосами исследователей, спелёнатые, как православные мумии дышловых самолётов, в одежде просаленного пергамента, в венках из цветов бергамота, мы искали вешнюю воду детского воскресенья. Но находили только близорукие блики, слияния и поглощения на стекле мальчишек-ручьёв. Подождём сентября. Там, в сумеречной аллее, лучи будут биться сквозь рыхлый листинг фестонного листопада. День ото дня к пустоте приближаюсь: делаюсь тоньше, прозрачней, призрачней, становлюсь страхом. А, казалось, на третьем от солнца вокзале не пустовал, жил при деньгах, CGI если и применял, то редко и аккуратно. Когда же выходил в космос, то лишь облитый защитным потенциалом как колоколом корабельной латуни.
В моём горном замке есть пурпурная комната, набитая струнными монстрами, и, как сугробами, погребальными розами. Мне надо ступить туда и тонуть там два дня. Ты права, эта прорва огромна. Мы далеки от станции, и не герои с мускульным пластиком на титановых рёбрах. А проверь, какой ты ребенок – из злодеем обиженных? Значит, злодей. Это не вытряхнуть, как пыль пехотинцев или воду утопленников. Возле семижильных жильцов всегда много охотников срезать седьмую жилу. Так и девица Мария рыдает, что бесценную красоту отдаёт навзрыд, ни за что. Ничего не попишешь: социум требует смысла. А животным сходит и так. Их щадит пустота. Знаешь, вор плохо относится к тем, кого обворует. Не потому, что плохие, а чтобы не было совестно. Тот же закон применим к народу и казнокраду, к 6ляди и её мужу, к отцам и брошенным ими детям. Все, кто сделал нам больно, не до, а после считают нас плохими людьми. К которым был нужен, а стал не нужен. Не спрашивай имя коровы, чью вырезку ел на ужин.
В 22-ом утром я думал – мы правы. А сейчас, вечером, и не знаю, право. В пустой копилке только эхо ещё не пропало от звона монеток. Война – упрощение смысла жизни крошева марионеток, с огестрелями и пулеплюями лазившей по заброшкам. Если ты хочешь деталей и частностей, то мы тут развлекаемся оральным фистингом. Мы тут все в бензиновой безопасности чистим зубы бензопилами пацифистам. Костлявая анорексичка в хитоне с кощеевым капюшоном, скинутым на лицо, бродит по нашим двухсотым. Забралась, забилась, да и забылась – за какой иголкой разбила яйцо. Маленьким хочется, чтобы маленький победил, и ладно, и пусть, что с того, мерзавец. За окнами кто-то большой. Хаос капель шумит о хаос листвы словно силосный ницшеанец. Думали играть в суровые лица, а столкнулась с невообразимой дичью сопротивления материала. Материал – он такой, лежачий, как шпала. Кладешь на живот – опрокинется на спину. Тупика не видать в этой запруде затора. А вдали Черноземья только вопли туземцев, да шестиногие шатуны топчут воду в цилиндрах мотора.
Секундной стрелой ты косил травы забвения, и оттаявшая вода оттого наполняла отёки созвездий. Ты старатель, твоё движение оставляет в скалах туннели пустот. Скоро зима, и метельный стяжатель выскользнет из-под автомобиля. Дребезжащий звук нарастает опасно и близко и вдребезги разбивает истерику о лобовое стекло. Потом тебя перебросят то ли в тыл, то ли вовсе в затылок – смотреть: как покачивает отчаянье неприкаянным трупом Иуды, как ослиная осень крутит листья в стакане и плюётся горстями в окно.
Всё как во сне: хочешь вытащить, и вроде вытащил, но они сильно втащат обратно. Слева он наглухо заперт, так что вырваться из этого бытия ему поможет только трёхсуточный сон и беспробудные псы булькающей Гингемы. И вот он произносит нечто как заклинание: «Сила слов в словах силы. Призываю Вселенную вездесущую и сущую везде, даже здесь, и все её чудотворные силы на творение чуда: влить в моё ухо лептонный нектар тысячелепесткового исцеления! Сделай по-моему! Хочу! Да сбудется!» И пустота не ответит.
НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ К ЭЛИЗЕ
Мы что-то чувствуем, потом называем, и далее чувствуем уже что-то другое, в соответствии с наименованием чувства, которое, хоть и кажется похожим на первое, но уже отличается от него как пьеса от описанных в ней событий. Чувство неназванное – ещё прототип, чувство поименованное – уже персонаж. Это то, чем мы решили его считать, отыскав нечто похожее в «списке чувств». Например, NN ощущает страх, решает – это тяга к курению, и вот уже курит. Возможно, это избавляет его от страха, но вместе с ним и от знания, что же его испугало. Мы, и в этом тоска, испытываем не реальность, а её смысл, который задолго до нас в нее вложен авторами языка. И, раз мы страдаем, реальность вложена в смысл почти всегда приблизительно, а порой до трагедии грубо. Трагично, когда NN испытав влечение к новой, решает, что разлюбил пассию прежнюю. Он не разлюбил, он решил, что разлюбил.
Мои удивляющие меня самого продукты, которые мы опрометчиво договорились считать стихами, – это попытка выбраться из машины смысла, лязгающим тезаурусом языка штампующей, что и как я должен понять. Язык – возомнивший о себе шарлатан, назначивший себя экспертом, знающим соответствия всех лекарств всем болезням. Его слова просто требуют от нас психоза: например, слова «обида», «старость», «ревность», «обман» или «одиночество». Если одним из них назвать то, что было неясным, оно сведёт вас с ума.
Я понимаю, что полное разрушение всех лирических клише, принуждающих нас чувствовать не чувства, а список стандартных чувств, сделает меня непонятным. Да что там, уже сделало – похоже, вы единственный мой читатель, преодолевший дебри первой главы. Читатель – друг. Вы понимаете недостаток самого понимания, ограниченного запасом понятных нам слов. Мы чувствуем не свои чувства, а бездарно играем роли, исполняемые названиями этих чувств. И потому чувства разрушают нас.
Я верю, что мозгу миллиард лет. Он умнее меня. Он не хочет разрушать себя, но вынужден разрушаться, руководствуясь инструкциями, заложенными в слова. То, что в моих текстах воспринимают как абсурд, бессвязность и даже издевательство над читателем, лишь попытка бегства из плена насилующих нас слов. Но, похоже, мир убийц и самоубийц не нуждается в этом.
Что ж, прощай, жестокий мир! Парсеваль уходит в платоновскую пещеру пить воду подземных озёр, есть ящериц и скорпионов, пугать летучих мышей и слушать беседы сталактитов со сталагмитами. Скрыв лицо под фосфоресцирующей маской, например, Фантомаса, он будет ощупывать стены, находя сходство с Кремлёвской стеной, и переносить сны предпринимателя Дерипаски в своё сверкающее, словно облитое новизной сознание, фыркающее искрами пузырящейся синей массы. Он будет видеть слова, избавленные им от судьбы смысла, в форме цветовых волн, летающей геометрии пересекающихся плоскостей, извилистых линий, потоков льющихся улиц, в виде сгустков пространства, точек зарождения жизни, обугленных городов и погугленных загогулин.