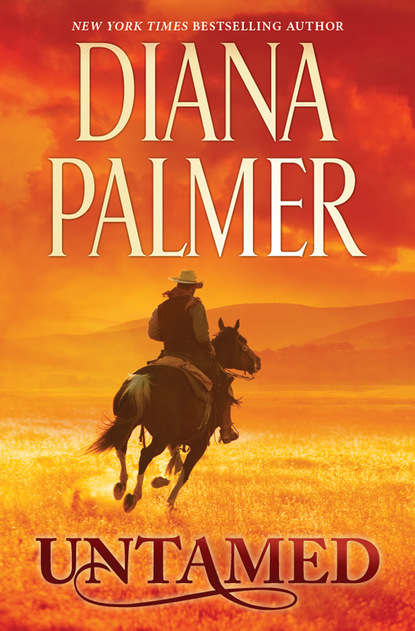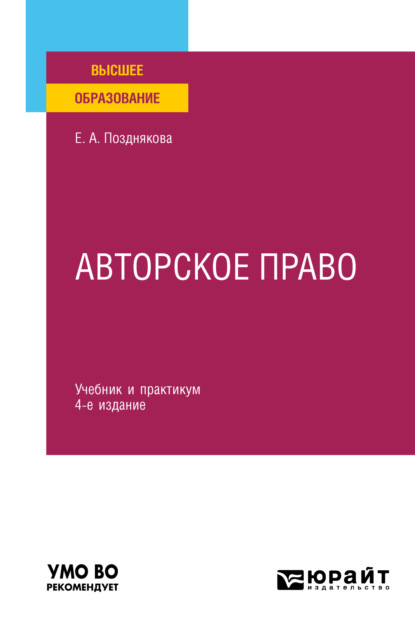Переливы Парсеваля, вальсирующего на ледяном рояле
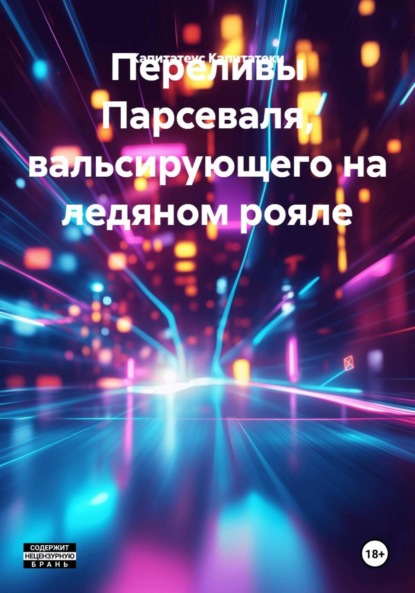
- -
- 100%
- +
Полуденный зной сменился вечерней прохладой, и уже без рези в глазах мы смотрим, как карамельный король Заира тонет в красном пожаре локомотивной зари. Мне не встретить свою набело писаную судьбу в сарае зимних созвездий, где, помнишь? – облезлая обезьяна с лапами в четырёх шерстяных перчатках стучала обледенелыми коньяками о бакелитовый телескоп. Мы бы жили в безвоздушном пространстве коммунальной квартиры, вздрогнув ночью от марсианского уробороса, шуршащего в синем звёздном песке. В гости по воскресеньям ходил бы асфальтовый Каталина. Помнишь – фланелевый отель, где на фаянсовом пианино играл нам носом пасьянсы апельсиновый симулянт? Мы пригласим его на новоселье, выкатим фальшивую плешь-рояль… О! Он заставит сентименталь прослезиться коллизией Парацельса. Его дрессированный кот-матрос подыграет на капитанском барабане лапами в маленьких боксёрских перчатках. Потом удешевленное каркаде нам станцует толстая балерина, и нас восхитят её алгебраические глаза, руки сиплой осины, ноги анаконды и холодная талия апрельской сосульки.
Стены будут фосфоресцировать английской пластмассой, когда в лунную полночь трансцендентальная поэтесса прочтёт нам поэму стеклянного звона. И сразу оральное зеркало плеснёт блеском в глаза. В полусне или в липовом половодье нам привидятся зигзаги скользящей глины за пределами соль диез. Нас не тронут волнообразные роботы, и мимо нас пронесётся лавина жестяных ангелов из анклава на Волоколамском шоссе. А потом в тишине первого января отверстый мороз нарисует нам искрами белый Мадагаскар.
№ 17
Годы спустя где-то у острова Оскорбильцева Эзра расплачется на палубе севшего на мель траулера, продев руки в рыболовные рукава просоленного норд-вестом бушлата. Ржавая карусель в его чёрных от мазута руках раскрошится, и по странной причуде он вспомнит ожесточённую строгость обжигающего языка клятвы: "Ни при каких обстоятельствах никаких обязательств!" Пароходный гудок изрыгнёт из протяжной трубы орлиного орангутана, и он будет долго висеть в небесном кольце крика чаек. А потом ступающий по хрустящей гальке патриарх Илья, разрезанный линией фронта, рассыплется на опилки ломаных роз.
В понедельник его бульон жадно слижет обильный мастиф. Во вторник, посреди пещерного лабиринта темнота абсолютного одиночества станет отсчитывать щелчки отрицания. В среду посольство огуречных республик узнает из телевизора, кто же и что там продирается в драке. В четверг под влиянием башенных кранов сонная мошкара в голове накренит Эзру над горизонтом брезента, и хлынет электрическая гроза. В пятницу он соберёт на свой ежемесячный юбилей светящихся офицеров из числа тех, кого не расстреляли стеклянные пулемёты времён всенародной ошибки. Они осушат кубки с ртутью за героизм гироскопа и как благочинный каприз перочинных ножей в снегопады расплещут сугробы их перьев. В субботу нависающая Арахамия заставит быть осторожным партизанского кроманьонца, и он выплюнет леденец, чтобы не стучал о зубы. Он заметит: слюна стала красной. В воскресенье Никита Паливода в доме фонтанов и текущих по стенам радужных водопадов, наконец-то встретит в конце концов в конец окоченевшего принца вагонных колодцев, но уже с патрубками вместо рук.
Ливень блистательных вилок прольётся в блюдца абсолютного солнца. Принцесса в платье из тончайшего патиссона ступит на хрустальную палубу фалафельного корабля Акапулько. В январе Эзра приступит к пастеризации бутылок больничного света. К началу года он вернётся из абрикосовых странствий звенящих пружин под барабанной мембраной. Отжав излишнюю сырость из мышц, в феврале он подведет итоги, использовав метод перестановки Раймонда-Поссельта. К марту в его лаборатории будет готов экспериментальный образец катализатора азотного азарта. А в апреле он пригласит нас в иллюзион офицерских мундиров.
Парк разоблачений к тому времени уже отремонтирует бригада чукчей, и пневматический начальник выдаст каждому по поддельной медали, сварганенных из юбилейных рублей. В целом ритуалы пройдут достойно, хотя медвежий менеджер ввернёт некоторые укороты. Он лично поздравит нас с прибалтийским китайцем и вручит свежесрезанный букет сабельных альбигойцев. Мы с братом перемигнёмся и прошепчем как заговорщики: если что, мы апачи.
Мой милый кораблик, не грусти этот чай, я расскажу тебе жгут новостей! Бармалей склеил ласты и блаженствует в вазелиновой ванне, поглощенный её пучиной. Протекающий Ватикан пятый год ждет слесаря с сенокосилкой. Золочёный француз оделся в сервиз Людовика, покрылся слоем удивления и прихорошил парик каиновым порошком. Он так элегантен и гомосексуален в шлеме из писсуара! Хозяйственная трещотка подтирает за ним тараканьи бега и бараньи мозги. В феврале переломилась напополам обманная оттоманка. Специалисты, шелестя ножами и вилками в вёдрах апрельской воды, обвинили в процессах ломкость высохшего капиталиста.
Капризная астра звездолёта "Тарантас Шевченко", брезгливо приподняв подол, переступит через металлолом сквалыги. Вечерами, когда Альфа Центавра опускается за горизонталь, она будет смотреть сквозь театральный бинокль как забавный аквалангист станет глотать свои гланды. Жаль, она никогда не увидит, как ледяной пустырь Оймякона вьюгой рисует Эзре комикс власти на лопате у волопаса. Ей милее то время, когда посольские полицейские на утренних велосипедах поливали брандспойтом блистательную Пикадилли неделю подряд.
Светланкина скакалка даже мечтать не смела о том, чтобы вместе с прибоем стегать скалы Шантарского моря. Она лишь наедине с дырявым закатом, чей томительно красный сок стекал поперек реки, писала позёмкой письма из ниоткуда в никуда. Впрочем, она немного лгала. Оттуда то и дело выставлялись заячьи ушки. По утрам проникновенно вникающий нож сам шинковал ей капусту. А по ночам разнообразный салют разбирал на дискретные фитили в небесах девальвацию вспыхнувших устремлений. Сквернословие каскадного фейерверка пугало её собаку, а в сенях недовольно ворочалась ворвань. Раз в год над домом со страшным скрежетом разворачивался анкерный кран, меняя направление стрелы сознания. Через семь лет его доконает клинкерный панкреатит, а пока его ещё тянет замученный мустанг, покрытый ещё в восемьдесят восьмом голубой шерстью синего лесника.
№ 18
Сорок дней оловянные флюсы скользят по полозьям молочного комбината. Семь недель скоблят скорбь со светящейся как плафон головы Олоферна.
– Посмотри, что там выкатилось с кашлем?
– Макула Ктулху и рулоны толинов, смолоподобные полимеры, промышленные стоки, выскальзывающие моллюски и грязь.
Абдоминальный Анатолий тянет по рельсам колёсного кролика в музейный Колизей, где вчера поскользнулся пьяный маньяк и рассыпал титрованные пробирки. Навстречу ему сомнамбулы несут таз нарезанных барбарисов, раздвигая сонные муары субботнего утра. Подорожание дрожи взрежет визгливый краковяк тормозов, и оглушительный Вольгушев толкнет фальшивые педали резиновой гари. В ту же минуту пергамент Анталии погрузит бузинный кальян в белые клавикорды Розы Анатольевны. Утреннее щебетание ножниц в парикмахерских Замоскворечья пересечет патриотический стриж. Мы впали во внутреннее Отечество и выпали из исторического контекста. Теперь в тепловизор мы наблюдаем как филин ловит в болоте фосфорной линзой бабу лунной глазури, а грязные водолазы горланят медные глотки. Я совью тебе карамельный кораблик и случайно сверкнувший автомобиль.
Скользящий Полишинель остро заточенной саблей рубит тяжелый бокал шабли. Занимается новый день, занимаются новые деньги. Звон ведра спозаранку расплещут натруженные барсуки, и округлые параллаксы колодезной влаги выстелют холодное солнце. По плану нам предстоит переместительный ярус квартального арьергарда. Батальон капюшонов строчит телеграммы почтальонам срочной капели. И они передают перестук. У орла много сил и петропавловский сплав теснится в двуглавой мышце. Так что вынь из чернильницы свой карбонильный каблук. Да пребудут с тобой благочинный Чингиз и Новалис!
В котле бурлит и бредит непереваренное вегетарианство. Но у нас есть ещё сформированный фефел Курляндии и благородство болгарского перца. Скрипы солнца вкручивают в это утро перламутровые шурупы. Они не оставят без дел мотоциклы гоминдановских комендатур. Положи в котомку сахарный бат, мы идем в Сахалинский лес рогатых карагачей. Сегодня не встретим баронов бульваров. Лучше прихватить плащ лягушечьей кожи – на улице миллиметровая морось. Не бойся, так устаёт от людей тонко расщеплённая личность. Человек – это музыка, а от мелодий меня укачивает и тошнит. Вот и сейчас сварливый насморк рвёт простынь. Мы сквозь тишину окна видим перекаты акров сорванной крыши по тротуару пыльного Абакана. Это жизнь, это кирзовые киргизы в закопченных котлах сдают экзамены на железных скрижалях. А ты просишь мой сон рассказать о сладких садах Бричмуллы. Изобилие зальет золотом наши могилы. Так что храни в пятке хлопчатого носка комочек запрятанной нами Камчатки.
Видишь ли, я Миг-27, но внутри меня Су-28. Сквозь зеркальный сервант патриота я вижу медвежью межу. Надень хотя бы на день политическое пальто ради подрагивающего величия кремлёвского канделябра. В шляпах нам подадут государственный суп, а бефстроганов – в генеральских папахах. Ты уверена, что пересчитала все спицы в Аляске? Не оборачивайся, эта махина кизильного машиностроения надвигается постоянно.
Мы остановимся и будет вокруг субатомная тишина. Вряд ли обрадует тебя, если ладонь превратиться в рубиновый Рубикон. Но в этих лесах звери платят природе рублями, вырубленными дятлом из древесных очей. В нашем краю есть обычай класть в гроб заряженный телефон.
Утопи вегетарианца лицом в винегрете! Расплавь Ельцина в плавиковой кислоте! Мы должны искалечить коллегу на боевом колесе, иначе Ветлуга первой убьёт нас ударом хвоста. Между пальцев босой ступни московские грязи чавкают, как погрязшие гризли. Закатное солнце сияет на каплях гробовых грабель антенн. Так что взваливай на спину бакелитовый блок, хватай панельный утюг. Миру – труд! А переливы и трели Мистраля мы поставим надгробьем подстреленному менестрелю.
№ 19
Год назад наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архиепископ Павел просыпал горсть канцелярии на черный паковый лёд. Полицией остановленная вода в то же лето подбросила мрака в небесный марксизм. Похоже, международные боги ведут дело к войне, пока в церковных одеждах мы пытаемся освятить кулебяку Кулибина. Ты знаешь, а ведь пощады не будет, ты прочтешь это в колбасных лицах из бицепсов и варварских клубней. Мы с тобой несерьезны, мы изморозь, наволочь, каприз, балетная пена ускользающих мыльных опер. Там, на фронте нас стошнит порошками Ташкента до сотрясения мозга. Там иллюзия плезиозавра писана струями на завтрашних небесах. Но семьдесят посеянных порохами дымов накинут ли на Арахами покров короля кораблей? Фаянсовая пастушка уведёт стада фарфоровых кроликов прочь от целенаправленных стрел. Сядь на колени к отцу, погладь его ангельские рога. В кубике красивой бумаги он подарит нам опломбированную клубнику. Сегодня тот день, когда опоясанный поездами облетевший октябрьский ясень обмакнет душу в плоть отдохнувшего камикадзе.
Значит, запоминай. В тубусе ты найдешь рентгеновский стробоскоп, поскобли его, и так извлечешь россыпь замкнутых искр. Я останусь. Мне опять исказили лицо кордицепса на вцепившейся маске ненасытного кровопийцы. А тебе пора собираться. Взгляни: перья аэропорта осыпали камни угрюмых домов. Красный карась в электрической мантии молний активирует двери в межзвёздный аккордеон. Случится так, что рельсовые регалии будут пролегать через окололунный Арктур. Под грушевой базиликой я закопал реголитовый графин. Отпей оттуда глоток реликтовых галеонов, и да наполнит тебя галогеновый свет! В деревне на пятые сутки пути колодезным воротом познаешь суконный отжим. Потом будет легче: солнце положит тебе на глаза медали, а там рукой подать – и полигональный залив. Не набирай зелёных алмазов, возьми только Капитолийский блеск. В ту же минуту на влажных манжетах проступит альпийский ледник.
Я останусь слушать как пополам утопленные в ботфортах русофобии украинцы чавкают наискось с ангельским вазелином тошнотворную судорогу в кровавой бурде. Буду слушать, как по малорусскому небу прокатится реактивный погром. От былой воды во мне остался лишь плеск – это Каслинская Оксана полоскала весло в весне. Открою роман свежесрезанных роз на похоронной странице. Там взведенный будильником парижанин на рессорах из круассанов грассирует, приседая в пружинистом реверансе. С Альп сползает пологий Гоголь и во рту у него целлулоидный ноль. Он вычертит циркулем всеохватный квадрат. Я бы не стал бояться его. Судя по рогам и копытам, дьявол – прицельный вегетарианец, шерстяного мяса не ест, разве что иногда по утрам в Константиново пьёт розовое молоко бегемотов. Там к нему иногда в золотых самолётах приближаются дилижансы джазменов. Да, о чём это я? Или с возрастом уже ни о чём?
Март в этом году засыпал нас распотрошенными почтарями, распахнул настежь новую свежесть до изморози в носоглотке. А вчера с перекладины на вагонном окне улитки Лиги рельсовой стали роняли капли бессильных молитв. Ты спросила: о чём это я? Да я и не слушал шахтёра в аллее туннеля, где угольно и скандально откололось фрактальное эхо. А как изволишь слушать гостей, если включён телевизор? Помнишь, ночью на берегу в наши красные лица глядели искромётные монстры костров, и чахоточные бахилы черпали потусторонний запах жадно играющими ноздрями? Звон бокалов извиняет вино, давай и мы друг другу простим старинные наши неврозы. Искусство слезы жалеть себя поэзией циркулярной фрезы выставит цацки на саблезубый мороз. А там в бесчисленных толпах расстегнутый Орлеан тешит себя огнестрельной стрельбой из бесконечного пулемёта. Мы должны склонить трусливые головы и подчиниться, так назидали нам весы чугунной угрюм-баронессы. Облако диаметром два километра весит четыре тысячи тонн.
№ 20
Горе врага – награда героя. Нас упакуют в посылки для подземного почтальона, и он доставит нас замыканию глухонемых на монолитный замок. За смысл жизни, как и за рубль, надо бороться, вырывая его у других. Всё происходит одновременно. Пестрота мира строчит лоскутами из швейного пулемёта. Кременная сама из себя выбрызгивает огонь на злокозненный и шипящий лиман. Скрипящий архиепископ ворочается в старой кровати, солёной от бесов бессонницы. Донецк любуется на падающие лампады пылающего дождя, а тебя всё ещё восхищают полюющие пехотные мины и изумительная мазня золотой лозы утопающей в роскоши «Лузитании».
В матросских клёшах босые души скользят по истине поистине тонкого льда. Поднесши к губам, заоблачный великан пьёт из Клермонского собора лакомое какао. В Александровке по улице движется река заснеженных хризантем. Северск сквозь огневое кольцо высекает искры берсерков. По линии оборотня катится огненный вал из конвертов от детских писем под пересвисты пронзительных пуль, плюхающихся в трясины проницаемых тел. Противник контролирует водопроводным вентилем и гашеными марками 15 процентов города, и нитки бисера распадаются на отдельные бусины как сама с собой конкурирующая толпа.
Пьяный муж в ответ на укоризну жены объясняет: «Да. Ты права: центр потерян. Мы пятимся. Но не назад, а вперед!» Проблема в том, что, ни минуты не сомневаясь, честные люди судят по себе негодяев, и, честные, они не могут иначе. Именно так постаменты подтверждают свои монументы, и в форме скульптуры герой существует как некий обломок никому неизвестной культуры медведя коала.
Пока ты спала и перебирала в цистерне британские сны, официант Хаймерс внёс на ледяном блюде вразумляющий взрыв и рекультивировал инвалида еще одной новой культёй. Проснись! Соловьев уже льётся сквозь щели как лунный свет или холод струильи из полыньи с голубоватой подсветкой. Впереди распахнута пропасть Бахмута, сзади необходимость волчьего леса. Проснись же! Между пальцев твоих выпадают структуры рассыпчатой Астрахани. В твоих спутанных волосах Президент управляет стрелами судебной системы и параллелограммы её вихляются в изломанном твисте. Лишь потому, что ты спишь, арбитражный пожар в преломлении оптических стёкол прелата лакомится гарнизонными витражами полыхнувшей грозы. Если ты не проснёшься, шахматный суд паркетной долины зальёт лососевым полтергейстом высосавшую нас весну.
По ночам Мацуев слышит тревожный стук из рояля. Он видит, как души морских композиторов зябко дрожат на переливах струны. Ему захочется спрятаться в детской коляске, когда гроздья черного электричества встанут над сумраком города. Но той же ночью незамедлительные сталагмиты продольно лягут в его юдоль. Сольные выстрелы лазера на шестьсот километров ввысь попадут точно в центры шестидесяти американских бронежетонов. Теперь ему не о чем волноваться. Всё – как всегда. Сонный Песториус в системе Альфы Центавра шевелит усами Бен Ладена. Пьяная от росы Василиса согласует проекты пиджаков и очкариков, потому что в суде фигуры и фигуранты не говорят на человеческом языке. Тем не менее, это не помешает импортозамещению передвигать мебель и вставлять в шифоньерную скважину тридцатый скрипичный ключ.
Надежды питают нас: стоит открыть кингстоны и шлюзы, поднять задвижки на дамбах, и витиеватое развитие школьных ручьёв само собой всё устроит. В будущем плутоний сложит квадраты разума в ромбы, а затем вовсе сплющит в отрезок с четырьмя узелками ганглий. Ураганные регионы вырвут урановые постаменты, и великие памятники будут летать как стрижи. Невидимый маг, говорящий на языке заклинаний, будет без печали смотреть на утекающий в ливневую канализацию дождь почтальонов. Но это всё завтра, мой ангел А пока что буксующая бусификация нацистской свиньи чавкает на мусорных свалках. Пока что денежные мешки хомячат замешкавшиеся завтраки патриотов. Удлиненные удивлением лица обманутых дольщиков посмотрят на это и не успеют заметить их обугливания при тысячах градусов неуправляемого термояда. Руины наших домов покроет дешёвый пепел наших бесценных тел. По этой пустыне напишет позёмку извилистый прах полиэтиленовой лентой рвотного бычьего цепня. Господи, избавишь ли от страха нас, стоящих на этих твердынях коммунальных отходов? Когда солдат молится, отлитая из глянца и блеска польская САУ Краб стреляет багетами и круассанами по беспилотникам с письмами от родных, но каждый раз снаряды превращаются в голубей.
№ 21
Едва ли кто-то в марте 2025 года в замурзанном промышленными стоками Перемышле мог знать, что сиятельный Переславль уже топчет бомбами гексакоптера провода миокарда. Там царил как обычно кораблестроительный лай и путаница наматывала морской оверлок на взвизгивавшую катушку. Изо дня в день три раза в час жители оттаявших ледовых дворцов иллюзорным зрением любовались отраженными лебедями, перевернутыми в озёрах памяти. И Марк Апрелей как бес эпилепсии повторял: «Смирись или чистильные утраты убьют тебя на свалку и наповал». А Дыц-тыц Перевердыц подумал со сцеженной зубами злостью: «Ты посмотри, какая святая анальность: она что-то находит интересное в людях! Да она первой сходит на тебя как на шоу и воткнёт острогу в уплотненную мышцу сердца».
Осенние посетители бросали детали в Чайковский пруд и смотрели, как в ответ им ворчит молочный вибратор матриархата. По утрам подзатыльник будильника подливал в двигатель свежие мысли, а на белом кафеле играл в жмурки рафинад солнечных бликов. Госпитальный кисель растекался по Долгопрудной долине и вспоминал погружение в грязь задумчивых сундуков.
Что делают с красотой уставшие от преклонений? Что станет с Родиной, если в прогорклое жерло будут кидаться одна за другой капли милости? Повезет ли твоей контузии в урагане питьевой жертвы во время большой прогулки войны? В ушных раковинах будет плавать комариный пескарь, когда нас завернут в пергамент и перевяжут бечёвкой. Но здесь нам недолго и не до того. Мы следим, как сексуальный добытчик ловит продолговатую, покрытую сусальным золотом даму и подвешивает за влагалище на анкер бешеного крана. О, как мне горько печально постыдно и страшно!
В скрипящей каюте обеспокоенность неприкаянно меняет утешительный шёпот на петляющий лепет. Какой смысл в том, что манипуляции ножницами в парикмахерской щебечут честь и славу героям от бесчестных бесславных скотов? Так и так снова призраки ночи подморозили на колеях осцилляцию ледяной суеты.
С возрастом исчезают возможности исчезать в колосьях пивного посольства. Всё это неспроста, как гнилая солома погоста. Небесные бесы не слышат землетрясения. Им всё равно, что пролитый на берег Берлин выпьет золотой скарабей божьей кары. Им важно лишь, чтоб пополнялась изобилием половодья юлианская касса династии босяков. А мы в откопанных нами окопах стоим по колено в кайнозойской грязи.
С каждой ночью приближается стук – это подлое кайло стёсывает крушение Харе Кришны. Лёжа на гулком дне, мы слизываем воду, оросившую колодезные кольца Ольги Бергольц. Тут как бесполезный купальный утёнок плавает надувная попытка Поплавского. Да, забыл, вот ещё: обломки оттенков леса ловят вторичные и далёкие отголоски.
Народ – дурак, тонкой шутки не понимает. Собаки умеют читать на пяти языках, но раз нет способа доказать, поверим, ибо нет способа опровергнуть. А противоположенные кошки читать не умеют вообще. Так или иначе, счастье – это какая-то химия типа фотографической соли, когда негодяя перемещает карбоксильный спорткар и ему подпевает танцующий карбюратор. Математикам тяжело без любви: нам никогда не понять, насколько они умны. Мы способны понять только миграцию синих оленей в сознании зеленых камней, и то лишь когда она соблаговолит понять нас.
Нас выслушает карстовая пустота перстня, и очень искристые крестики на черной воде в колее подскажут дорогу на свалку красот. Это недалеко, это с той стороны мира. Каждый тут христианин на всякий загробный случай. Это ни хорошо, ни плохо, когда фыркающий синими пуфами трактор заводит картофельный Дюссельдорф. Если что, пошарь в кармане и найдешь зеркальный верлибр ювелирных озёр. Не мне тебя осуждать, если призматический отжим Алистера Кроули всё же высвистит сипотой наше огульное небо. Ты всегда найдешь геликоптер в футбольных гетрах, когда среди небесных лампад скользит Николя Саркози.
№ 22
Впервые легенду о Гамлете записал в конце 12 века Самсон Грамматик. В придонном домовом сне ему виделись искривление змей, понимание, что кроме параллельных, множество линий тоже не пересекутся, а на фронтовом тракте валяется гробокопатель с разинутым ртом. Теперь он узнал, что не смог понять за всю долгую жизнь. Его письма носит на почту домовой почтальон, набирая дорогу до дома на изворотливой клавиатуре. На мониторе его гитарное подсознание исказит широкополосное рукопожатие посевных гектаров, и оттого даст критический крен. Кто узнает его теперь в лабиринте трубопроводов?
Ты озираешься по сторонам. Похоже, тут снова новые правила. Домовой опять не вышел на связь. С возрастом ему стало трудно ходить по Генисаретским озёрам – неустойчивая вода норовит опрокинуть любого. В правом ухе его сиплый свист, в левом – распростёртая росомаха и небесная россыпь ситара. Поэтому на всякий позорный случай он включает шорохи русского сахара. Или, когда уже вовсе невмоготу, грохотом топоров рубит забор из гробовых досок. Людям свойственно распадаться.
Раз в год, надев очки с оловянными стёклами, Луиджи Гальваник читает с конца одну и ту же газету «Советская судьба». В мире снова всё то же. Чистоплотные против немытых играют в монгольский пинг-понг. Слизистый коклюш сползанием поглотил колбасный работодатель. Что ж, не всё будет так плохо, когда водопад шумного фарша нас укроет от зноя ближайшей звезды, а прохладный форштевень прольёт на нас Баренцово-Печорское море, тонущее в корабле.
Трудно найти собеседника жителю третьего рейха среди жителей третьего микрорайона. Всегда спиной к его призраку старушка из пены и пепла льёт новое легкомыслие в рубиновую лампаду. За назойливость спины он называет её Спинозой, что, если вдуматься, глупо. Около полуночи на детской площадке как всегда хулиганская свистопляска освящает гульбой смысл жизни. И вот уже на погорелых проклятьях дети закапывают родителей, а эпигоны – своего гения. Кто его знает, может жить в грязи нам мешает установка на чистоту? Тогда, чем очищаться всю жизнь, лучше убрать установку. К примеру, чистоплотные протестанты всё ж упустили ускользающий Мариуполь. А вспомни холодный ГУЛАГ и античные ключи огнестрельного солнца! Нет, друг мой, средневековый проныра не кто иной, как прохвост, таскавший хворост для костров Инквизиции. Спросишь меня: почему? Потому что сначала мысль учится врать. Истина невыносима.
По утрам ангел потсдамской капусты многое говорит, но недоговаривает, отчего и моему домовому, и мне кажется: я отстранён и забит. Похоже, я летчик, в те времена ещё не понявший, что он уже сбит. В те времена на площадке в подъезде за 15 копеек натачивал ножницы и ножи мобильный точильщик. Как правило, это был ветеран недавней войны. У него был педальный станочек с колесом от велосипеда. Сегодня Шуман, растворенный в отражениях на районном рояле, затачивает широкополосные лезвия словно шаман, вызывающий дождь подражанием шуму дождя. Подражатели отражают нас хуже нас, но дождь отзывается. Он как девочка – вечно не ждёт. Да и сам я нонче чтой-то неустойчив.