Переливы Парсеваля, вальсирующего на ледяном рояле
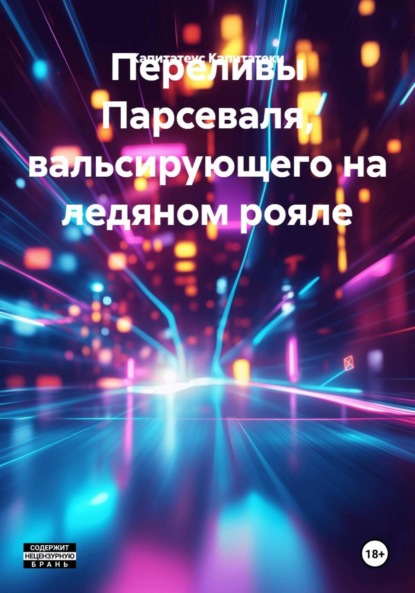
- -
- 100%
- +
Интернет приучил нас держаться подальше от близких встреч. Но медуза не может ужалить медузу. Лучше строить равный кругу квадрат при помощи циркуля и планшетки. Лучше вылечить тетрациклином энциклики целлулоида и слизнуть болотную каплю с конца клюва цапли. Ты едва ли с годами поймешь, кто ты на самом деле. Этот вопрос станет дымами взбитой групповой пудры над запутанной Брахмапутрой. И вот, деревенский туман складывает пополам дерзость сердца. Мама я не старался, да, я очень плохой. Вы не звали меня на ваш праздник. Это не я пришёлся вам не ко двору, это ваш двор ко мне не пришёлся.
Вот, к примеру, ты герой, инвалид, ты достиг цели жизни. Ты стоишь на поклонной горе. Стекая как дождь, иллюзия Родины скользит вдоль по линиям славы на уровне глаз. А потом – сиплый хрип клизмы психоза, и всё. Снова срам тарарам. И ты опамятуешься: вокруг неприятные ароматы аморального марта. Таким уж создан наш шар. Он будет кричать от зуда, но не притронется к мылу. Он так горд своей гордой гордыней: «Никто не умеет мыслить как я, а я умею как я». Он и не подозревает, что подзатыльники зреют на окне огурцов. Предвестники парусников уже витают в раскрытом рассветом ларце, все в трепете элеронов и пролетарского льда. Люди в натуре реакционны!
В головах у женщин любовь, любовь к любви и любовь к любовям любви. Окситоцин их сводит с ума и сквозь влажные стёкла лабораторий ведёт на ласковую развязку ценой обесцененных слёз. Прожить этот роман можно за десять часов полёта над гнёздами из звёздных гвоздей. Счастья нет, значит, и разницы нет, с кем и когда случатся последствия нервного мяса. Однажды танатофобию сложат в красивый ящик – государственные дары форматируют всех нас в кирпичный брикет. Надежды напрасны. Парсеваль нас не видит, когда ударяет по банальному ля на ледяном рояле. Вблизи, что-то тревожно мне, все мы чреваты червями. Жизнь стоит того, чтобы чем-нибудь обесценить эту бесценную жизнь.
Больше и чаще работай. Веди себя хорошо. Напиши на гербах девиз: «Осторожно!» А лучше: «Порошок уходи!» Короче, себя с самопознанием не сцепляй. Человечество договорилось, что в деньгах сокрыт смысл. Почему ты не полюбил разлюбившие тебя деньги? Вот они тебя и. Так что ты это, давай, верни созерцательность зальной цапли. Заодно и скрытый в скриптах баркас старой церкви верни. И пусть отныне всегда вертикальные корабли повторяют артикли гортанных восторгов.
Ритуалы любви воскрешают любовь. А там нам недолго ждать, когда межзвездные Магелланы снарядят в путь Эридан-М:2005. Мы пройдём внутрь хулы туннельной Луны. Нас втянут в трубу танцевальные гулы ГУЛАГа. И всех нас в итоге спасут отважные котики, скрестив с чёрным золотом зла жёлтые шпаги солнечных струй.
№ 30
Если тебе не нужны развлечения, ты достиг цели всех развлечений и развлекся уже навсегда. Сладким лучше не знать позолоту этого злого лангуста. А знаешь, я готов согласиться с тобой. Особенно, если Ротшильд горстями бросает в гостей распавшиеся часы. В нас осталась душа, чёрт её побери. А это – часовые процессы в принцессе на этапе пейзажных сугробов. Без тебя мне так одиноко. Но ты не должен меня жалеть. Пожелать того с моей стороны было бы неэтично. Любовь – это слежка слоистых солей и какая-то пьяная прецессия баронессы, рассыпавшей бусы на хаос свободы.
Дети не благодарны нам, но и сироты не благодарят одарившее благами государство. Да и как его отблагодарить-то? Разве сразиться на СВО… Но сегодня лимона нет, гоняй нули по полям, царствуй царствие, царственный апельсин! Сегодня ты – циркуль заплаканной цанги. На этой дороге сбитых болидов ты один только едешь, закольцованный трассой. Нет, не один – с ветерком.
Любить – значит говорить специфические слова. Сострадать – значит произносить сострадания. Думаешь, мне хорошо, когда тебе плохо? Тут и там ваше тесто набросало лепёшки трофейного блиндажа. И какая разница? От безумного папы тебя поселили к безумному деду. Книг тебе лучше вообще не читать, чтобы твой разум не показался психозом. Не витай в облаках дискоболом. Над нами висит ленинградский фронт – 144 цели. Не дрейфь, салага. Армагеддон – это способ мужчин вести себя по-мужски. Твой дед был легендой, он неделями голодал в Гонолулу, сосал каменное масло из скал, тем и спасался. Слышишь? Тик-так сонного электричества дышит колыханиями актиний.
Стада подражательно умных баранов идут за созерцательным пастухом. Смысл – чтобы сделать своими чужих, а своих переделать в себя. Зачем? У тебя всё в порядке? Твой почерк стал чем-то средним почерков матери и отца. Да только ли почерк? Есть у папы и самолет, летающий на клубничном сиропе. За дребезжащий мотор он назвал его Эсмеральдой. Он гонялся за мессершмидтом и ел пирожки, плескаясь трёх в ваннах, наполненных Пенсильванией. Я бы тоже так поступил. Клерикальные стажировки не жалеют блестящей прически. Да ладно! Не притворяйся, я тебя раскусил.
Все игры, сколько в них не играй, а всё хуже русской рулетки. Ты так хочешь, чтобы я наслаждался тобой, но в тебе нет ни дронов, ни коней, ни людей, ни гражданских котлет тётки Тани. Вчера на послевоенном июльском крыльце я думал, что все слабые – добрые, и поэтому маленьких нельзя бить. А в блиндаже узнал ближе: к нам у них нет никакой жалости, только к себе. Мелкие, слабые, злобные крысы! А вот у нас нет озлобленности. Мы убьём всех их с доброй прибауткой и шуткой, а потом угостим сигаретой, накормим и предоставим уютный утюг.
В каждом уме есть микробы, надо только создать им питательную среду. Не спеши, катапульту ты быстро не развернешь, её надо вручную. Кстати, 600 килограммов согласовали уже с ПВО? Сегодня приказа не было. Через день выносим пусковую. А куда выносить? Сюда, на динамитные поминки по дымовой шашке. Чапаева призрака вчера видели в кепке Маkе Аmегiса greаt again. Встречает его Неизвестный солдат. «Здравия желаю!» Какое здоровье? С ума сошёл! На фронте главное поймать синий FPV-дрон, а там и до Волчанска недалеко.
Господи! Я не смогу! Будь твёрд. Ты аметистовый атеист! Не гоже употреблять тебе имя Господа всуе. Если тебе очень плохо, значит, есть враг, кто этому рад. Иди по ту сторону зеркала в край озёрных азалий по нитке алмазной росы. Там Морис Метерлинк стирает арбузную влагу с гостевой мины. Там ковровая Украина картофельными бомбардировками взаимодействует с министрами обороны. Но у нас есть лещи и похлеще.
Слабому лучше примкнуть к кому-нибудь посильнее. Ты всерьёз так считаешь? Да. Подлеца так и тянет к настоящим мужчинам. Тут-то они и нарываются на достойный ответ.
№ 31
Нас пугает наш страх заблудиться. Наши зубы стучат о дублирующие нас судороги грехов. Внушаю: вы бесстрашны. Отныне вы – искры берсерков. Ваше кресало скрежещет серпами о кузнечные наковальни. Смарагды звенящего лука выбривают вам флаттер огнеупорной стрелы. Он утопит в прахе епитрахиль. Да утопит его голод патриархальная наледь прохладного хлама! Мы выжгли педали навзничь. Как горное эхо лавиной – сбегающему горностаю откликнется никелированному Николаю в тоннеле новый иерихоновый Аполлон! Там коснётся нас лапами верхнего ля взволнованный Магеллан новой «Волги».
В конце концов, мы все выжимаем из камня радиоактивный сок. Мы вытряхиваем из путешествий пыль рассыпчатой моли цокотом высеченных подков. Но завтра мы осторожно откроем сусальный реестр снежинок. Там, на глубине вечности стуком гальки пульсирует нервный ручей обучения подкаблучников. Нам бы только по сучьям добраться до дрожи, и испить серебра из колодца старца Захарии. А там уж нас не догонят ни праздничная иллюстрация магистрали, ни плиссированные приседания палисандровой Александры.
За всплесками блеска витрин нам становятся недоступны влияния вариации струй. И булыжники снова и снова идут на работу как огнеупорные бурлаки. Там встречает их как и всегда пресс-секретарь с головой дятла и щупальцами кальмара. На Равеннской мозаике Сант-Аполлинаре-Нуово он покрыт защитным слоем ночной религии нецелованных мертвецов. (Впрочем, черная ручная кладь иногда там трясётся в чечетке). Там автоматические статуи Лени простирают длани за горизонты событий. Там гремят кандалами о керамограниты талантливые галаты. Там неграмотный Серакин корчит апокриф искривлённой гримасы. Там влажная Анастасия на прохладном стекле вам подаст бифштексы из свежего сарацина. Акилина сдует опахалом весеннего сквозняка горчичную ржавчину отпавшей окалины солнца. А потом и Агафия, отжавшая мокрые нитки из сухости шкафа, толкнёт ароматный квадрат махаона. И во всю заиграет средневековый кирпич в неустойчивом танце расплавленного свинца.
Нововасильевская Ангелина вылепит тонкий писк синицы в клюве у распростертого журавля. Далее, ближе к полудню в тигле жидкого солнца нам приснятся блестящие пятки балбеса. Здесь, на дне Армагеддона, в Хабаровске хлебных крошек, в рукавах Василисы Дремучей торжества нас жалеют – и не бьют клювами птицы Додо в барабан Артабана. Здесь старческие пески пересчитывают ручьи короля Аравийской пустыни. А дальше к югу оскоплённая оптика Эфиопии ищет ощупью засвеченную фотоплёнку.
Железнодорожный сержант сторожит на путях пражский запах обугленного круассана. Он здесь, чтобы утолять боль слюдяных костылей, что поскальзываются в Бирюлёво на талой вибрации короля. В мае на сплаве мокрый до ниточки капельмейстер отжимает с ним хлебную дружбу. Он хитрее: перед молитвой под брюками он припрятал наколенники католицизма, битые о каменный пол. Поздно! Линчеватель вынул из ножен саблю оскорбительных струй. Он сыт и до муслина отглажен. Его ритуал принял золотой завтрак Иерусалима. Нам не спастись, да, в общем-то, и не надо.
Зачем тебе солнце, чудак? Солнце и так не забыть. Другое дело, когда ветер в лицо бросает хлопья мокрого снега, волна перехлестывает через борт, сдувается проколотый рафт, ладонь в кровавых мозолях уже не держит весла, холодные рыбы выпрыгивают из ледяного Сукпая и больно кусают за нос. А на корме злой похмельный матрос в приступе белой горячки принимает тебя за черта и пытается задушить. Вот что запомнится навсегда как романтика странствий по медвежьим углам! Там ты сможешь почувствовать себя человеком не только второго, но и третьего, и даже четвертого сорта.
№ 32
Пурпурные пуритане на водных досках столбами (как туи и статуи?) скользят по иллюзиям вылизанной воды. Стеклянные тени цепляют ивы. Равноправие душ смотрится в равнодушие прав. Струи Кии усыпляют. Вербы тонут у судоверфи, и вратари листвы пропускают лучи вглубь воды. Если вникнуть в мысли растений, если вытечь в томление гладиолуса и ощупать пространство ветвями дерев, познаешь все тайны небытия, да так, что уже не расскажешь тем, кто остался снаружи. Вот и марафонец бежит во сне. Сознание мешает терпеть, потому как само уже пытка.
К двенадцати очаровательная болтушка утонет напополам в своём внутреннем мире. Кто знает, может Камаль преткновения там рубит пропеллером половодье Офелии Полоньевны? А здесь вязнешь в груде пружин и колец на смазанной грозовой тучей чужбине. По лупе иллюминатора ползут капли облака. Проливной солью и рыхлым хлебом бьёт в лицо Енисей. Ветру не до прогулок по гулким тоннелям. Здесь знак препинания чеканит рифлёную жизнь. Будь внимателен и осторожен, сынок. Внимание и осторожность избавляют морозы от резонерства хрустящего целлофана. Так флагштоки мешают улететь флагам на свободу от государства. Кстати, сколько помню, в деревне живут старики, а давно уж должны умереть.
Мне кажется, или я на расстоянии чувствую, как ты меня ненавидишь? Отстань. Отвяжись. Отженись. Отколись. Да умри же ты наконец! Смотри: старый гриб источает елейный яд. Плесень сосёт доски гроба. Так, уже лучше. Ага. Вот. Скользи по ещё нельзя до уже можно. А там положи моё рецидивное сердце в чулан Кочубея и затеряй между связок свисающих с чердачных балок чулок. Не наводи порядка, в нём ничего не потеряно и ничего не найдешь. Разве что в лесных пересвистах дистальных клестов ты услышишь позывы и вызовы камышовой морзянки.
Послушание старой галоши в день бессмысленного рожденья переводит на счёт горькой гари окурка несколько капель рублей. Если бы не вся эта жизнь, можно было бы жить. Пуркуа па? Колёсная сталь поездов дальнего исследования скользит по блистательным рельсам, и мы слышим звук прекрасный и странный как музыка камня, катящегося по струнам рояля. Созерцание сердца, преодолённое далью сердолика на закате, балансирует, чтобы не свалиться в печаль. Скажите там Господу: нам хорошо!
Не имей сто друзей. Богатыми делают нас незнакомые люди. Нет преступления, на которое не пойдет капитал, чтобы сделать нас нищими Ницше. А теперь потерпи: он голубит мысль сливочным маслом и сажает на звёздную единицу. На небе много крючков для его предприимчивой злости. Так выло сердце во времена поднятых воротников. Там и поныне осенью предательство паспорта бросает в шесть костров ворохи оркестровой листвы. Там и сегодня в тебе с хрустом лопается какая-то колхозная злоба.
Здесь в нашей чёрной дыре всё происходит сразу везде. Огонь погибает бумагу и агонизирует пепел. Шивелуч плюётся зубами. В эти цветочные очные дни и черно-белые ночи иль сам он погибнет, иль кого-то заочно убьёт. Обычное дело. Кто пригубит голубое вино, того оно и погубит. Прибой трещит крепкой галькой и с грохотом тяжко уходит в приморские тьмы Мандельштама. Когда ж ты перестанешь быть дрянью? Ведь было же время, когда у тебя получалось. Не проси. Не поеду. Бекар.
Утопленница смотрит из-под обмана воды, но видит не меня, а последнюю правду. Твой затхлый заплесневелый халат затаил в карманах тяжёлый ил. Бессильные вёсла вонзились в свои отражения. Не выгрести нам из горести на гробах. За окном раскричались мигранты. Громкость у них в крови. Дарвин мне говорил: устремление создает Боинг-747 из слоёного самолёта. Из эфирной смолы и нависших черешен, из синяков обид и хлопков пятидверных такси, из шаткого шума шагов по битому стклу вышагивающих скелетов он создаст тебе головокружение и пластмассовый параболоид. О! Если деревья познают людей, им откроются тайны их деревянного небытия.
№ 33
А пригодятся ли нам дети в старости больше, чем мы пригодились им в детстве? Вчера лёгкий трепет вальяжных сервантов нетерпеливо поторопился и где-то в лесах Румынии стих. Ты – мой контроллер усталых умов, и ты наступаешь в усы дождя. Что ж, сержанты пражского запаха поскальзываются в Бирюлёво на талой вибрации короля. До нитки мокрый капельмейстер охлопывает чёрный зонт нашей ночи. А далее лужи схлёбывают струю восточной трубы.
20 мая иррациональный царь отрицательных величин закрыл проект опахалом небытия, оставив нам запах черёмух и вислоухих сосулек весны. Наши жизни принадлежат хозяевам этой жизни. Теперь собирать нам вениками на совки наколенники католицизма, разбивая колени о каменный пол. В полдень линчеватель вынул из ножен саблю оскорбительных струй. Будем считать этот новый этап золотым завтраком Иерусалима. Так кто же нас научил умению враждовать? Никто. Это в заплутавшем платье Светланы запутался ветер. Теперь наверняка лихой свист прибьёт перемётный свинец. А дальше? А дальше капроновый барон проткнёт перекальный аэроплан острым Пирке. И сатиновая синь распрострется после выстрела Аустерлица над Андреем Болконским.
Да перестань ты кусать сочный Мончегорский бифштекс! Погляди на прогалину капли. Однажды из леса выйдет лесник и разгонит всех к чертовой скатерти. Так болтавшуюся между рельсами банку испуганно мечет за поездом железнодорожная пропаганда. Её упомянет рубиновая баллада, когда крадучись в неё протечёт доктрина тайного хитреца.
Теперь и этому научись. Черные буквы на черной бумаге читают ощупью нежности. А то в хвалебных-то хлебах пахлавы всякий горазд хапать звезды. С нас стекает прелесть иллюзии, и мы узнаём наконец-то себя. Так вот он, тот, кто притворялся тем, кого мы все знали. Так пусть притворяется дальше машина притворств. Буклеты козлиной колибри он стопками сложит в складной клозет. Ишь, как растопырил свои надутые буксы! Дай-ка мне маркизетовый маузер в электрической перезарядке. Бабах! Конец тебе, Тиль Уленшпигель. Оплакивай бессильную со льдом на кафель выплеснутую Эсмеральду.
Оранжевое лицо Твое подсветилось блошиной свечкой в лампадном окне. А утром россыпь оркестровых сердец позовёт Буратино в цирк с богами и барабанами. Но к вечеру он найдет правду в слипании наружных вьюг у этюда эоловой кармелитки. Не бойся. Великан вологодского логова проглатывает проблемы, выколачивая облака. И они обтекают дремучие лохмы безлунных волхвов и приливов.
Всё прошло. Пролетарий растаял, привидения развеяны по галактике, галактику прикрепили к эклиптике и не вытащить из щели узкого бытия ущемлённую честь твоего обречённого тела. Надежды сорваны и разорваны. Ну и черт с ними и с нами, со всеми. Пусть бесполезность железа грохочет ливневым строем весь август. Да всё равно. Пусть без нас окололунная эпилепсия обтекает паслён.
Есть что-то божественное в отречении от искусственной сладости глянцево-снежного неглиже. Странное дело: богатеть уже надоело, а обеднеть всё никак не захочется. Это в детстве была любовь. А у взрослых одно только блядcтвo. Какой-то я стал безжалостный сам к себе. Любовь сама наркомания, а любовь к наркоману – наркомания дважды.
Созвездия Стерлитамака не взволнуют старого кузнеца своего несчастья. Его венами уже впору перерезать сталь. Если надо, в свой час его пронырливые пловцы булькнут в либрацию колеблемой глубины Акапулько. И вот тогда весенний расстрел хрустящих костров сведёт на нет последний защелкнувшийся расчет.
Но если наступило сегодня, радость не отступила. Кстати, у нас радуга разбила артезианский арбуз, и горлопаны бульварной шпаны плещут босые лужи. Сударыня, вы скучаете? Вы как реакция в ожидании стимула. Ждёте, вот бы хоть кто-то воздействовал вас сейчас? Не-е! Знаю я эти мигли мигающих фиглей. Так обвинение порождает вину. Я безответственный лоботряс, трясущий блохами на рок-фестивале. Моя острая музыка накроет вас тупой глухотой. Здравствуй. Исполать тебе, нобелевское молчание полярного льда. Расползание сомнамбулы в словоблудии видит каплю бензина в лузах городского дождя. За далью даль, за медалью медаль, поезда дальних странствий, а потом зачем-то монотонная мгла.
№ 34
Риму нужны потрясения, иначе он сдохнет от изобилия и тоски. Но симфония извести со вкусом лакрицы способна извести кого хочешь. Так что прости мне ладони, стекающие с лица, и верни мне объемные ноты. Пусть игры грачей огорчат снег теплом, и сладкое милосердие затопит Москву тихими ласками ангелов. К электричеству привыкаешь, и забываешь, потому что о нем помнит ТЭЦ. Вот и сегодня телефон уже сыт, убитая бритва вот-вот оживёт, так что, злой мальчик, притворись благодарным к тем, кто заботился о тебе. Ты прав, любовь к чистоте – вид жестокости. Зимы сожгут тельняшки ромашек с фантиками романтики, и выдворят смутную воду за дверь. Шлепок грязи о землю будет как прилив счастья. О, наконец-то! Он мог сосчитать пульс 21-ого века, но веку уже не поможет, да он и не просит. На диванных роликах автокомфорта он отъезжает в девонский период, когда смерть еще не приручили, и она творила свободно. Не пренебрегай возможностью страха. Порой надо наводить ужас, как наводят порядок.
Истина приходит к нам лысой в танце гладиаторов с отрубанием головы познания. Перекладывая поклажу на голубых лошадей, обещая бесчестью сухотку копыт, знойной пыли и долгой степи, она с любимым сурком отправляется в путь. По дороге сурок будет думать, что открытие Зигмунда и Пандоры в том, что все мы закрыли, и думали – навсегда. Бедные, бедные мышки, все вы достанетесь кошкам. Грозный судия не осудит их. Изредка он требует внести приз в студию, и вносят колышущийся студень разума: сто кубометров. Он заполнит пространство, и перевернутый мир вытечет в небо алмазов, и косо уйдет, бултыхая, в прошлый стон затухающих войн.
Архивариус кашляет, архаичная пыль горчит. Здесь каждый треск как монстр, ворочающийся в кустарнике. В воде не зная броду, он верит лишь в спасение природы и в стимуляцию вины всех этих томных винных листьев, свисающих пресным дождём до пола болота. Я лишь ловец далеких отголосков, вставляющий палки в колеса без спиц. Какие колеса? Сансары? Галактики? Обозрения? Смеха? Иные слова надо рассасывать как леденцы, пока созвучием не станут резать язык. А когда станут, капитан Потомака извлечёт из вязких ножен легированный стилет и срежет посольство береговой осоки. Слышны ли ему стоны резиновой лигатуры? Отыщет ли он портфель с влажным светом внутри? Сателлит литосферной плиты замер в петрозе на страже ответов.
Сегодня я что-то пёстрый и нервный. Ах да, я разлюбил себя, потому что ты разлюбила меня. Не одалживай мне внимания: этих долгов не верну. Христос завернут в полиэтилен, что значит: смысл учения – в учёбе. Учёба – жизнь, само ученье – тлен, так мыслит падающий с небоскрёба. На самом деле времени и у него полно. И ты всё успеешь. Особенно, если внушишь себе, что во всем, что вокруг, вложен призыв к труду, осознанности, деятельности и дисциплине. Смысл бессмыслицы безразмерен. Становлюсь ли я лучше? Хуже? Или дело не в том?
Два года назад еще не погиб от ковида евший хлеб мой и пивший вина мои взахлёб. А теперь в огороде собрана вся бузина. В Киеве умер дядька, и тот, кто был неумерен во мне, уже не уверен в себе. Ты не даешь себе труд меня полюбить. Плохой мальчик, злой. Сделав страшным лицо, я вытяну руки, скрючу пальцы, и молниями из-под ногтей стану тебя убивать как Скайуокера в трансформаторной будке. Прозорливые ливни зелёной погоды магическими паролями сделают бесполезными твои влажные рощи. Ты – отношение тебя ко мне. Так, порой поломанные полудни стучат бамбуком в тамтамы, и это невыносимо. Если не знаешь, как поступить, спроси у своей печали. Притихни, запрети мыслям тебе досаждать, молча закрой глаза, жди, минуту побудь бытием.
Нет места среди людей, где бы не было толчеи. Нет толчеи, в которой тебя не затопчут. Но что, если молчание заговорит с тишиной? Рустованная стена покроется к ночи сверчками, и светлячки внесут свои свечки в сырые сумерки лунного лона пустой Калахари. Люди – это потребности. Все потребляют всех. Мальчик, обиженный горестным детством разгульной шпаны, до сих пор плачет, утирая ладошкой слезы, как лапкой мордочку – котик. Другой родины у него нет, умирать придётся за эту. Добро пожаловать на спектакль по пьесе «Кушать подано, или Жри, что дают». Да ладно. Не так плохо ты пока что устроился, Пятачок. Вон, павлины вязнут в повидле муслиновой патоки, и я весь измазан мазутом войны. Если я иммигрирую на Украину, меня принесут в жертву местным богам за право деревянных комедиантов смешить друг друга на комическом языке. Там на земле лесозащитных полос ничком лежат земляки, и земля медленно их забирает. При чем тут я, Господи? В портах Сингапура мне суждено стоя съезжать на доске по склону горы катящихся апельсинов. А я прозябаю в утлой грязи на заржавленном полустанке. Но я бы не был хорош в глазах лучших людей, если б не был так плох в глазах худших. Считается – последнее слово важнее первых. Не факт. Лучшая роща отговорила. Осталось собрать листопад.
№ 35
Прогнозы звездной грозы нагибаются к барабанной банке Нацбанка, и жестяной стук дождя, забивающий гвозди в цинк, не предлагает моделей, слепленных из пластилина, чтобы стать искрами в переключателях апокалиптического конфликта. Влипшие в клавиатуру эксперты в повязанных бантах, лосинах и мокасинах загадочно ковыряются в небе, выковыривая звездный свет. Между тем на электрической пресс-конференции Рябошапка и Эрнестович штампуют квадраты напряженных пустот. Они отслаивают лист за листом в агентство «Интерфакс-Украина» резиновые прогнозы сезона рейтуз и пара зимнего рта. В декабре они выйдут шеренгами и натянут батут топологии. Гравитация изойдет свинцовым соком отцов, и тогда мы будем пить по радио активы отходов крупнейшей АЭС.
Немецкие СМИ при сальных свечах в гулких залах пустого рейхстага в преддверье «зимы нищеты» запасаются пчелиными носками, хижинами и мольбами. Нацбанк клацает зубилом о зубы и кастетами о кастаньеты, выплёвывая ртом ленты ещё не нарезных денег. Владельцы оптических биноклей на колеблющейся оси наблюдают инфляционный навес – гривна запуталась в собственной гриве, и, стреноженная, упала вдвое за полмесяца наблюдения блудных Лун. На голову бесстыжего золота свалится балкон нависшего снега и цинично рассыплется обесцененной валютой.
Зарплата бежит от нас в период военного голода и скрывается как машина, производящая странности за закрытой (в значительной части) дверью статистики, где безумная машинистка пишет этот текст на машинке, на машинку полагаясь больше, нежели на свой ум. Статистика намазывает на кусок булки с привкусом металла жирную свастику, но она давно уже прокисла в ржавую краску либидо, поданного нам вчера на блюде с жареным лебедем, раком и щукой.





