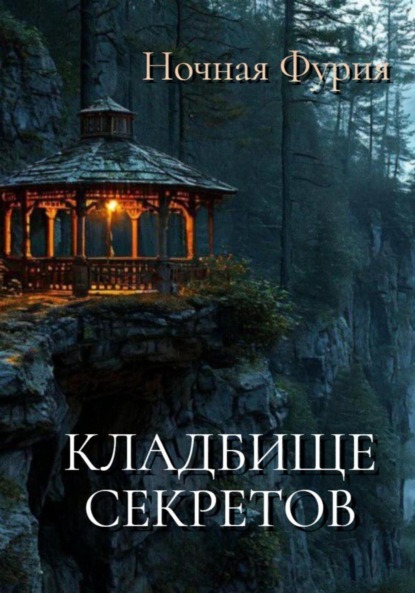Тайна Ненастного Перевала

- -
- 100%
- +
Он смеется, и я с облегчением понимаю, что он поверил моему объяснению, и мне не придется говорить, что настоящая причина в том, что мне стыдно.
– Сейчас это что-то вроде хостела, управляется некоммерческой благотворительной организацией.
Его лицо в свете фонаря выглядит оживленным. Конечно, это так в его стиле – ретро, андерграунд и немного таинственно.
Я поднялась в его глазах за считаные секунды, и что-то в душе оттаивает – пусть его внимание и досталось мне нечестным способом. Если бы он знал, как я сюда попала, его восхищение сменилось бы жалостью. И пока этого не произошло, я нарушаю первое правило «Джозефин».
– Хочешь зайти? – предлагаю я.
Снять комнату я смогла, только подписав трехстраничное соглашение с управляющим: никаких свечей, электрических плиток, никакой еды в комнате, а также сигарет и алкоголя. И никаких гостей, никогда. Я словно снова оказалась в Вудбридже, но снаружи ждал Нью-Йорк, и я могла уехать в любое время, когда захочу, – вот только во всем городе не нашлось бы другого места, которое я могла себе позволить. Если меня выгонят за то, что я привела гостя, придется уехать из города.
К счастью, когда мы входим в холл, Аттикус, похоже, чувствует, что надо вести себя тихо, потому что не восклицает, а благоговейно шепчет: «Ого!», во все глаза рассматривая потолок, украшенный плитками с росписью в стиле ар-нуво, колонны, на которых стоят пальмы, и чучело павлина, расправившего хвост над стойкой регистрации.
– Будто попадаешь в прошлый век…
– Здание было построено в тысяча девятьсот восьмом году, – тихо произношу я. – Как отель для нуждающихся девушек, а потом, в двадцатые годы, он стал благотворительным учреждением. Джозефина Хейл, бабушка Вероники Сент-Клэр, была прогрессивной женщиной, реформатором, она работала здесь и передала так много средств в их фонд, что это здание в итоге назвали в ее честь. Вон ее портрет, над столом администратора, – указываю на картину, выполненную в тонах сепии, которая с течением времени так выцвела, что черты лица женщины уже почти не разглядеть. – Пойдем, я покажу тебе бальный зал.
Я веду его в большую комнату в дальней части здания, надеясь, что Альфонс, восьмидесятилетний ночной сторож, устроился в кабинете управляющего и смотрит старые фильмы по интернету. Свет я не включаю – вдруг все же Альфонс где-то ходит – и плотно закрываю за нами дверь. Наши шаги эхом отражаются от темных высоких стен, и на мгновение я могу представить, как выглядел бальный зал «Джозефин» во все эпохи. И пока не зажегся свет, мне хочется, чтобы Аттикус тоже это увидел.
– На старых фотографиях видно, что зал был обставлен как викторианская гостиная. Аспидистра в горшках, обитые бархатом кушетки и диванчики. Джозефина Хейл верила в воспитательные свойства чая и этикета. Она считала, что женщины, которые целыми днями работают в цехах или торгуют на улицах, станут леди, если научатся правильно разливать чай и играть на фортепиано.
Я слышу тихое дыхание Аттикуса и чувствую, что он тоже представляет эту картину – девушки в накрахмаленных белых рубашках и с высокими прическами склонились над рукоделием, слушая негромкую мелодичную музыку.
– К сожалению, чай и этикет не мог уберечь этих недоедающих, бедных девушек от улицы или от рук мужчин, которые хотели ими воспользоваться. Поэтому Джозефина основала женский приют на севере штата, на территории поместья, принадлежавшего ее семье, чтобы женщин, которых поймали на краже из магазина или продававших себя от безысходности, могли избавить от пагубного влияния и поместить в безопасную домашнюю обстановку. После «буйства Кровавой Бесс», как это называли газеты, дела в благотворительном доме Джозефины шли все хуже и хуже. За ним закрепилась репутация дома проституток. К концу двадцатых годов Джозефина Хейл умыла руки, и это место превратилось в подпольный бар и бордель. Вместо фортепиано тут теперь играли джаз, в чашки наливали джин, а девушки одевались намного откровеннее.
– Бедная Джозефина. Наверное, была в ужасе от того, что ее имя стали связывать с таким местом, – заметил Аттикус.
– В то время его называли «ДжоДжо». В годы Великой депрессии здесь устроили благотворительную столовую и ночлежный дом, в сороковых морское ведомство превратило его в тренировочную школу для Добровольной женской вспомогательной службы, а в бальном зале устраивали танцы для солдат Объединенной организации военной службы…
– Держу пари, здесь играли свинг, и военные танцевали последние танцы со своими возлюбленными. – тихо произносит Аттикус. Хотя я не вижу его лица, но чувствую, что в его воображении возникают те же образы, что и у меня.
– Те танцы были одними из последних. Затем, после Второй мировой войны, для отеля настали тяжелые времена. К шестидесятым его превратили в благотворительный отель, печально известный случаями неожиданных смертей и поножовщины. В восьмидесятых и девяностых годах в этом бальном зале выступали панк и гот-группы, такие как Siouxsie & the Banshees, The Cure, Bauhaus, Skeletal Family, The March Violets…
Аттикус стоит так близко, что я чувствую исходящее от него тепло и слышу стук его сердца, словно мы действительно находимся в толпе, танцующей в темноте под жесткий бит.
– В начале нулевых здание купил застройщик, который пытался превратить его в бутик-отель, но после две тысячи восьмого года наступили тяжелые времена, и дела снова пошли на спад. Отель выкупила некоммерческая организация, которая им сейчас и управляет. Думаю, у каких-то мест есть свое предназначение, и они всегда к нему возвращаются.
Тянусь к стене и щелкаю выключателем, открывая взглядам комнату – пустую сейчас. Никаких цветов в горшках и бархатных диванов, никакого джина в чашках, никакой толчеи. Пол вычищен и покрыт лаком, как в спортзале средней школы, единственная мебель – несколько потертых кушеток, неровных и бугристых, и составленные в ряды складные стулья для еженедельных собраний анонимных алкоголиков и поэтических вечеров. Единственное, что осталось от былого очарования, – чугунные перила, ведущие в мезонин, и витражный светильник на потолке.
Поворачиваюсь к Аттикусу, ожидая увидеть на его лице то же разочарование, что чувствую я сама, но он смотрит на меня так, будто я одна из тех женщин из прошлого, призраков которых вызвала своим рассказом.
– Откуда ты все это знаешь, Агнес? – изумленно, даже благоговейно спрашивает он. – И как ты нашла это место?
Вместо ответа я говорю:
– Я хочу тебе еще кое-что показать.
И я веду его по чугунной лестнице вверх, в мезонин, где на стенах висят старые фотографии. Провожу его мимо снимков в тонах сепии, на которых одни молодые девушки в блузках участвуют в демонстрациях за избирательное право и трудовую реформу, другие – с короткими стрижками и платьями с заниженной талией – веселятся от души, на следующих фотографиях женщины в форме военно-морского флота выстроились в ряд, еще дальше – тоскливая серия монахинь и социальных работников, которые позировали с политиками и бизнесменами. И наконец мы подходим к примерно десятку черно-белых художественных снимков панков с неровно подстриженными волосами, в рваных футболках и кожаных куртках, с пирсингом из английских булавок. Аттикус останавливается, указывая на несколько известных лиц – Патти Смит, Дебора Харри, Ричард Хелл, Джоуи Рамон[17]. Наконец я дохожу до последней фотографии. Этот снимок сделали с галереи мезонина, где мы стоим, глядя вниз на сцену. Бальный зал переполнен: видна лишь масса запрокинутых лиц и поднятых рук, все смотрят на сцену, где две юные девушки наклоняются к одному микрофону. Свет направлен на ту, что стоит ближе к краю сцены, а вторая девушка, в нескольких сантиметрах позади, – в темноте, и ее лицо выглядит тусклым отражением лица другой. На шеях у обеих темные чокеры, и поэтому их головы кажутся отрезанными от тела.
– Погоди, – говорит Аттикус, наклоняясь через мое плечо. – Это же…
– Девушка с обложки «Секрета Ненастного Перевала». Я тоже так подумала. Посмотри на татуировку на ее руке.
Аттикус всматривается, прищурившись:
– Неужели это…
– Фиалка? Да, думаю, да, прямо как та, что делает Джен в книге. А тут…
Я снимаю фотографию со стены, переворачиваю и отгибаю зубцы, которые удерживают картон в раме. Вытаскиваю подложку и показываю оборот фотографии, на котором едва различимы написанные карандашом слова.
– «Вайолет и Джен на сцене в „Джозефин“, лето-993», – читает вслух он. – Вот черт! Это она. И посмотри на дату – всего за год до того, как она опубликовала свою книгу. Ничего подобного в ее биографии нет. Агнес, забудь о продолжении – я бы хотел прочитать настоящую историю Вероники Сент-Клэр, как она от этого, – он стучит по стеклу, – прошла путь до автора «Секрета Ненастного Перевала».
– Думаю, это как-то связано с девушкой, которая умерла здесь, в «Джозефин», – начинаю я, повернувшись к Аттикусу. Он тоже поворачивается, и на секунду наши лица оказываются так же близко, как и лица двух девушек на фотографии, точно мы тоже делим одну песню, и губы наши так близко, что вот-вот соприкоснутся в поцелуе…
Но затем тишину нарушает голос, который неприятным эхом разносится по галерее.
– Мисс Кори, пожалуйста, проводите своего гостя к центральному выходу, а затем немедленно зайдите в мой кабинет.
Глава четвертая

Выговор от Роберты Дженкинс, управляющей «Джозефин», – само по себе плохо, но выражение лица Аттикуса, когда я провожаю его к дверям, гораздо хуже. Все восхищение из его взгляда исчезло. Он смотрит на меня как на заключенную.
– У тебя неприятности? – спрашивает он у выхода.
Я пожимаю плечами и с деланым безразличием отвечаю:
– Да нет, у них просто куча правил здесь… Увидимся в понедельник.
И закрываю за ним дверь, пока он не успел спросить, что за правила и почему я тогда согласилась жить в таком месте. Иду в кабинет в дальней части здания, мимо досок с объявлениями о встречах анонимных алкоголиков и услугах психологов, мимо белой магнитной доски, на которой маркером написаны задания по хозяйству.
Вот она, унылая реальность. Вокруг уже не отель «Джозефин», а «Джозефин-хаус», общежитие для временного проживания отбросов системы социального обеспечения – алкоголиков на пути выздоровления, бывших заключенных, освобожденных условно-досрочно (если только это не насильники и сексуальные маньяки), сирот, которые после совершеннолетия лишились опеки – всех, кто остался на обочине жизни и сейчас нуждался в безопасном убежище.
В служебных помещениях за холлом пахнет мелом и концентрированным дезинфицирующим средством, как и в каждом приюте, интернате или исправительном учреждении, в которых я когда-либо была. Я чувствую, как присутствие духа покидает меня, точно падающий на землю воздушный змей, только что летавший на крыльях фантазии вместе с Аттикусом. Все возвращается на привычный уровень, туда, где твое место, шепчет голосок в голове.
Войдя в кабинет, я вижу, что миссис Дженкинс сидит за своим столом, опустив ладони на раскрытую папку перед ней. Второй раз за сегодня сижу перед столом, на котором разложена вся моя жизнь, – только в этот раз папка толще, а Роберта Дженкинс выглядит гораздо строже, чем Кертис Сэдвик. Морщины, появившиеся на лице за десятилетия работы в социальных службах, придают ей выражение терпеливой сдержанности, точно она уже видела всю глупость мира, и мое поведение лишь очередной разочаровывающий пример.
– Агнес Кори, – произносит она мое имя, как судья, выносящий приговор. – Я знаю, что вы не забыли про правило о посторонних людях в «Джозефин». Вы что, сегодня утром проснулись и решили, что устали жить здесь и захотели, чтобы вас выгнали?
– Нет, миссис Дженкинс, – начинаю я знакомый катехизис, который выучила в Вудбридже. – Я не хочу, чтобы меня выгнали из «Джозефин». Я очень благодарна за то, что живу здесь. Мне жаль, что я нарушила правила. Этого больше не повторится.
Она смотрит на меня, прищурившись, пытаясь уловить сарказм. И мне будто снова четырнадцать, я сижу в кабинете надзирателя и меня только что поймали за курением; или мне пятнадцать, и я пыталась незаметно выбраться; или шестнадцать, и меня поймали на побеге. Я выдерживаю ее пристальный взгляд, убрав с лица любые намеки на фальшь. Наконец она раздраженно вздыхает и качает головой.
– Тогда зачем вы это сделали?
Эту часть я не люблю больше всего: когда заставляют заново проходить каждый шаг вплоть до того, где я сбилась с пути, – покаяние, но без тайны исповеди.
– Коллега проводил меня, ему было интересно узнать историю «Джозефин», и я… я просто хотела показать ему, какое это удивительное место – и в прошлом, и сейчас. Я не собиралась вести его в свою комнату или что-то такое, и мы ничего… такого не делали. – Я краснею, вспомнив тот миг, когда лицо Аттикуса было так близко к моему. Он собирался поцеловать меня?
– М-да, – явно скептически произносит миссис Дженкинс. – Так это был урок истории? – Она смотрит в папку на столе и перелистывает страницу. – Так, тут и правда указано, что у вас были хорошие оценки по истории в Вудбридже… и что у вас самой есть история.
Я морально готовлюсь к продолжению. Хотя доступ к делам несовершеннолетних закрыт, мне пришлось подписать бумагу, иначе на место в общежитии «Джозефин» я могла не рассчитывать.
– Хотя вы и были прилежной ученицей, но сбегали шесть раз, – присвистывает она. – Куда вы пытались попасть?
– Не знаю, – вру я. – Просто… сбежать.
– Вам не нравилось в Вудбридже? Я знаю, в таких местах может быть нелегко, но от прошлых жильцов я слышала, что там лучше, чем во многих других.
– Так и есть, – отвечаю я. – Есть места гораздо хуже.
– И вам так там нравилось, что вы решили вернуться туда преподавать после завершения колледжа.
– Да, – подтверждаю я, – они предложили работу, и мне показалось, что так будет проще всего погасить свой студенческий долг и накопить немного денег…
– А потом приехать в большой город и найти работу в… – Она снова смотрит в папку, – в издательстве. Вижу, три месяца назад вы получили работу в издательстве «Гейтхаус», – снова сверившись с папкой, продолжает она. – И как ваши успехи?
Сердце сжимается.
– Сегодня я встречалась с руководителем, и он сказал, что доволен моей работой. Вообще-то я как раз должна читать одну рукопись…
Миссис Дженкинс только хмыкает в ответ: моя попытка сменить тему ее не одурачила.
– И?
– Я дорабатываю следующую неделю, но меня не могут взять в штат только потому, что у компании финансовые трудности и ее может купить другое издательство. Руководитель сказал, что даст мне хорошие рекомендации.
– Так, получается, вам сейчас снова нужно искать работу. Помните, что одно из условий вашего проживания здесь – оплачиваемая работа.
– Я помню, – говорю я. – Аттикус, кому я показывала бальный зал, как раз сказал, что у него есть для меня пара вариантов.
– Что ж, очень мило с его стороны, – замечает она. – Просто скажите ему больше не приходить ночью.
– Скажу, мэм.
Мое «мэм» вызывает у нее кривую улыбку, она закрывает мою папку и, повернувшись на стуле, открывает в стоящем рядом шкафу для хранения документов второй ящик сверху. Он открывается с неприятным металлическим скрежетом, точно голодный зверь, которому не терпится поглотить мои ошибки и грехи, и закрывается с удовлетворенным скрипом, наконец получив их. Я жду, пока миссис Дженкинс начнет подниматься, и тоже встаю. Наморщив лоб, она уточняет:
– Издательство «Гейтхаус» – это не у них вышла та книга, что была так популярна в девяностые? «Секрет Ненастного Перевала»?
– Да, – подтверждаю я. – И до сих пор эта книга продается у них лучше всего.
Я уже жду какого-нибудь пренебрежительного замечания: большинство социальных работников, с которыми я сталкивалась, относились к этой истории не очень хорошо. Но вместо этого миссис Дженкинс одобрительно хмыкает:
– Я прочитала ее три раза, пока жила в Белвью, просто чтобы куда-то сбежать. Передайте этому своему руководителю, что он должен издать продолжение.
Все выходные льет дождь, будто укоряя меня за плохое поведение. Я не выхожу из комнаты, питаясь в основном слабым чаем и консервированным супом из общей кухни. Компанию мне составляют только позвякивание в трубах радиатора и распушивший перья голубь, укрывающийся от дождя на подоконнике. Скорчившись под колючим шерстяным одеялом в университетской толстовке с надписью «САНИ Потсдам», я заканчиваю читать рукопись, которую дала мне Диана. Почти с десяток бесплодных попыток написать рецензию спустя я беру свой старый потрепанный экземпляр «Секрета Ненастного Перевала». Эту книгу дала мне мама, когда я впервые попала в приемную семью – моя приемная мать тогда посмеялась, что подарок «слишком взрослый» для восьмилетнего ребенка, пока я не показала, что могу ее читать. Конечно, могла – я знала ее наизусть. Даже сейчас, проводя пальцами по потрепанной суперобложке и пожелтевшим страницам и гладя фиолетовую ленточку, которую мама оставила как закладку, я слышу, как она читает мне вслух.
Начинается книга довольно просто, с того, что наша героиня, Джен, плывет на пароходе из Нью-Йорка в старинный особняк на реке Гудзон, где ее ждет должность учительницы. Она беспокоится, справится ли с этой ролью. Испытывает и тревогу, и восторг, и ей так не терпится добраться до особняка, что она сбегает из душной каюты корабля и, несмотря на ветер и дождь, стоит на палубе, вглядываясь сквозь туман, чтобы не пропустить первого появления Ненастного Перевала… «Я прижалась к фальшборту, изо всех сил вглядываясь в туман, будто в поисках собственного будущего, и вот, когда корабль обогнул последнюю излучину реки, показалось поместье! Серые камни, словно высеченные из тумана, появились на крутом мысу, как средневековая крепость на страже Перевала. В башне горел единственный огонек – маяк, ведущий нас в порт, в безопасность, или же предупреждая держаться подальше от скал внизу?
Так или иначе, было слишком поздно. Когда корабль подходил к берегу, куда торопил нас прилив, я чувствовала, что этот единственный желтый глаз смотрит на меня. „Я вижу тебя, – будто говорил он. – И теперь ты принадлежишь мне“». Я читала все воскресенье, до поздней ночи – меня затягивало в эту историю так же, как волны неумолимо тянули корабль Джен к берегу, и следом за ней я пришла в величественный готический особняк под названием Ненастный Перевал, которым управлял обаятельный, но властный ректор, Сент-Джеймс. Ученицы Джен были послушными, но странным образом подавленными, точно их отравили фиалки, которые они собирали в теплицах и отправляли по реке в город. Ночью Джен слышит загадочные звуки с чердака, замечает, как девочки перешептываются о призраке по имени Кровавая Бесс – горничной, которая убила хозяина, а затем повесилась, выбросившись из окна башни.
Появляются непонятные знаки: сложенные в узоры камни, засушенные фиалки в ее книгах, трещины в зеркалах и зашифрованные послания, будто выгравированные на окнах. Наконец Джен узнает, что на чердаке держат узницу, девушку по имени Вайолет, которая оказывается незаконнорожденной дочерью Бесс. Когда Джен идет к Сент-Джеймсу и рассказывает ему о том, что узнала, тот настаивает, что девушка унаследовала от матери склонность к жестокости и для ее же безопасности должна находиться под замком на чердаке.
Но Джен, проводя все больше времени с Вайолет, видит, что та умна и что у нее чувствительная и мягкая натура. Вайолет жадно читает все книги, которые приносит ей Джен, сказки о похищенных девушках – «Красавица и чудовище», «Синяя Борода», «Рапунцель», но, когда Джен приносит ей «Джейн Эйр», Вайолет теряет рассудок.
– Я – Берта, – кричит она. – Это я – та сумасшедшая на чердаке!
В приступе слепой ярости Вайолет поджигает дом, и Джен рискует своей жизнью, чтобы спасти ее. Они выбираются на крышу и спускаются по решетке для плюща на землю, но, пробираясь сквозь дым и туман, они слышат лай собак и бегут к утесу. Из тумана появляется Сент-Джеймс, жутко обгоревший и в дикой ярости, и наставляет на них пистолет. Но не успевает выстрелить, видит выступившую из тумана фигуру, кричит «Кровавая Бесс!» – и падает с утеса.
Джен и Вайолет подходят к краю, смотрят вниз и видят на камнях Сент-Джеймса со сломанной шеей.
– Теперь ты свободна, – говорит Джен, повернувшись к Вайолет и протянув руку. Она видит, как Вайолет медлит, все еще боясь уйти из Ненастного Перевала, ее единственного дома.
– Мы свободны, – произносит Вайолет, беря подругу за руку, и они делают шаг с утеса.
Чтобы спуститься по ведущей вниз тропинке, пересечь заросшие болотистые берега, сесть на поезд и начать новую жизнь в городе? Или чтобы броситься вниз, навстречу своей гибели? Фанаты выступали за оба варианта. Вероника ничего не сказала, вместо объяснений закончив загадочным вопросом: «Дорогой читатель, что еще я могу сказать?»
Последние строки я читаю, уже едва различая буквы, и засыпаю под звуки дождя у реки, и снится мне «Секрет Ненастного Перевала».
Я на обрывистом мысу, бегу сквозь туман на звук береговых сирен к реке, на мне лишь короткая ночная рубашка, которую в реальности я никогда не ношу, она вся в лохмотьях, и даже обуви на ногах нет. Позади слышу громкий быстрый топот, стучащий, как мое собственное сердце, и он все ближе, ближе…
Оборачиваюсь через плечо и вижу его – желтый глаз, уставившийся прямо на меня, он двоится в тумане, и вот уже пара глаз смотрит на меня из тумана, превратившись во взгляд голодного зверя, который подбирается для прыжка и прыгает…
Утром в понедельник я просыпаюсь, запутавшись в простынях, будто и в самом деле бежала всю ночь. Мне не первый раз снится сон о чудище из тумана. Психиатр в Вудбридже, доктор Хьюсак, сказал, что зверь из тумана – олицетворение моих страхов и что этот сон приходит в моменты стресса. Источники стресса, угрожающие мне сейчас, определить несложно.
Я не закончила рецензию для Дианы.
Я отправила письмо Веронике Сент-Клэр, после которого лишусь рекомендаций.
Через неделю я останусь без работы…
Или еще быстрее, если Вероника получит письмо и позвонит Кертису Сэдвику с жалобой.
И тогда я не только потеряю работу, но меня выкинут из «Джозефин». Мне будет негде жить, и придется ползти, поджав хвост, обратно в Вудбридж.
Подавляю порыв расплакаться от жалости к себе, поднимаюсь, иду в душ и одеваться. Налив кипятка в термокружку, быстрым шагом прохожу по Вашингтон-стрит, своему обычному утреннему маршруту. Мне нравилось чувствовать себя частью людского потока, спешащего на работу, – от владельцев ресторанов, выставляющих у входа грифельные доски с меню, до офисных работников в элегантных костюмах и владельцев галерей в модных вещах.
Иду я быстро, чтобы успеть напечатать рецензию на книгу, пока не пришла Диана. Глория, конечно, уже здесь: иногда мне кажется, что она и спит где-то в офисе, между шкафами. Когда я вхожу, она выглядывает из своего кабинета. Я машу ей, надеясь, что смогу дойти до своего стола без разговоров, но слышу, как она шаркает в обуви на резиновой подошве, и не успеваю подняться выше третьей ступеньки.
– Ты ничего не принесла мне на отправку в пятницу, – произносит она. – Но я хорошо помню, что для мисс Сент-Клэр было несколько писем. Ты про них забыла?
Я замираю на лестнице.
– Когда меня отпустил мистер Сэдвик, вы уже ушли, так что я отправила их сама.
Не совсем ложь, напоминаю себе я, просто недомолвка. Могла ли Вероника Сент-Клэр уже позвонить в издательство?
Но Глория только произносит:
– Хорошо. Правильное решение. Может, ты считаешь, что такой знаменитой писательнице, как мисс Сент-Клэр, неважны письма поклонников, но мне точно известно, что эти письма от читателей ей нужны.
– Конечно, – соглашаюсь я, мечтая провалиться сквозь лестницу. – Ну… мне там нужно напечатать рецензию…
– Разве у тебя нет ноутбука дома?
– Нет, – начинаю я, чувствуя, будто меня поймали на еще одном вранье. Кажется, на собеседовании я сказала, что компьютер у меня есть.
– А смартфона?
– Просто обычный кнопочный телефон, – отвечаю я, и щеки у меня горят. – Никаких последних моделей позволить себе не могу.
Глория смотрит на меня с сочувствием, что случается редко.
– Я поговорю с мистером Сэдвиком, чтобы ты смогла проработать еще несколько недель. Покупают нас или нет, мы пробудем здесь подольше, и твоя скромная зарплата не проделает бреши в бюджете. Но имей в виду, прибавки не будет!
И прежде чем я успеваю ее поблагодарить, она отворачивается, будто смутившись этого необычного приступа сентиментальной доброты. Поднимаясь по лестнице, я чувствую себя еще хуже, чем до этого. Надо было сказать ей о письме, которое я отправила Веронике Сент-Клэр. Когда Кертис Сэдвик об этом узнает, уже будет не важно, что Глория смогла найти деньги в бюджете на мою скромную зарплату. Меня выкинут безо всяких рекомендаций.