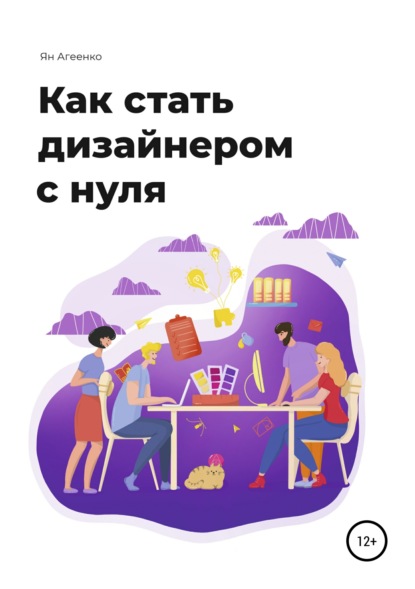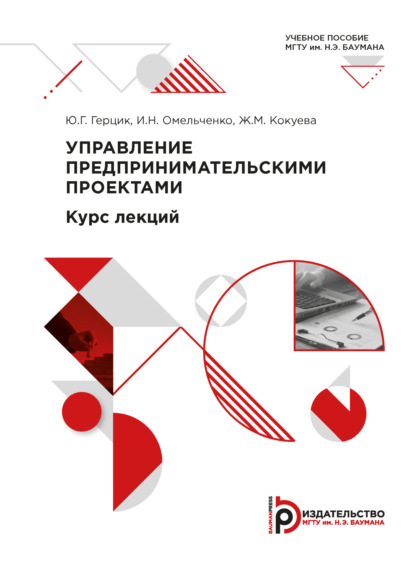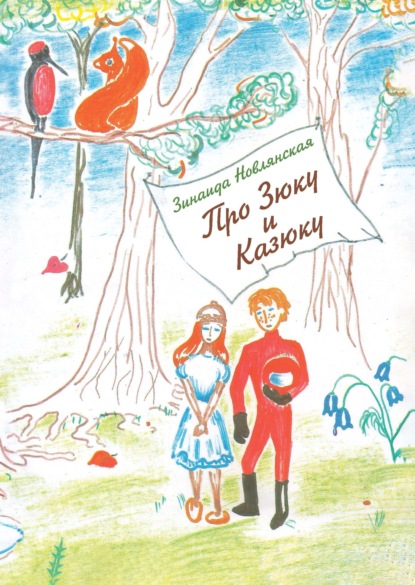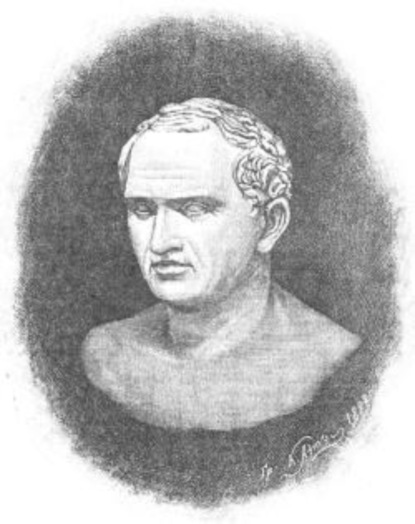Взрослая жизнь «невидимых детей». Психологическая работа с последствиями эмоционального игнорирования
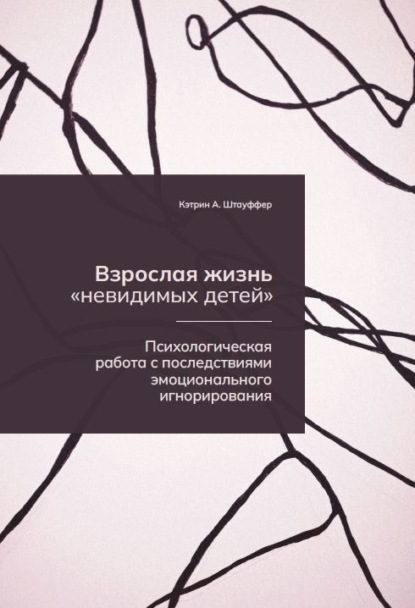
- -
- 100%
- +
Они могут действовать так по незнанию, из-за собственных психологических проблем или потому что у них просто не хватает на ребенка времени. Родители/опекуны при этом могут подозревать, что с ребенком не все в порядке, но предпочитают не думать об этом. Сюда же я отношу и тех родителей, которых почти не бывает рядом с ребенком: физически или эмоционально.
Я не включаю в этот ряд тех родителей, которые вместо эмоционального благополучия ребенка ставят во главу угла что-то другое (например, хорошее образование, удачный брак или выживание в трудных условиях) – в рамках такой системы убеждений их действия все же можно считать заботой. Однако я отдаю себе отчет в том, что бывают случаи, когда родитель озабочен своей целью настолько, что его отношение к ребенку заслуживает термина «эмоциональное пренебрежение». Например, если родитель с рождения ребенка полностью сосредоточен на том, чтобы вырастить из него кинозвезду, и при этом игнорирует его собственные потребности, это вполне можно назвать эмоциональным пренебрежением.
Здоровая противоположность пренебрежения – это внимание и забота. Ребенок при этом чувствует, что его видят, заботятся и помнят о нем. Впрочем, забота тоже может быть нездоровой – когда она чересчур навязчива, то превращается в мягкое насилие.
Существует довольно много исследований на тему того, в каком количестве внимания нуждаются дети. Можно утверждать, что есть золотая середина между слишком большим и слишком малым количеством внимания, а это наводит на мысль о том, что существует и здоровое пренебрежение. Оно развивает способность ребенка удовлетворять свои потребности и заботиться о себе самостоятельно, при этом точно зная, что взрослые всегда готовы прийти к нему на помощь. Благодаря здоровому пренебрежению ребенок учится проводить время наедине с собой (Beebe, Lachmann, 2002) и чувствует, что опекуны/родители не вторгаются в его жизнь с излишним контролем.
Границы здорового пренебрежения различаются в зависимости от особенностей конкретного ребенка, от количества (и качества) внимания, которое ему уделяют опекуны/родители, а также от других внешних обстоятельств. Кроме того, нужно иметь в виду, что потребности во внимании у детей также неодинаковы, однако всегда будут случаи, когда ребенок будет нуждаться в большем внимании – и важно, чтобы он знал, что может это внимание получить.
Я прекрасно понимаю, что представления о том, какая степень пренебрежения детьми приемлема для их здорового существования, во-первых, зависят от конкретной культурной среды, а во-вторых, сильно изменились за последние 50-100 лет. Несомненно, за это время произошло смещение фокуса, по крайней мере в западном обществе, с заботы о материальном благополучии детей (включая их образование) на заботу об их счастье и самореализации. Однако я не считаю, что 50 или 100 лет назад эмоциональное пренебрежение было нормой, – полагаю, что дети все равно чувствовали заботу со стороны родителей, даже если она не была сосредоточена на их эмоциональном благополучии. И до сих пор ровно то же самое происходит в странах, где у родителей/опекунов есть веские причины не ставить эмоциональное благополучие детей во главу угла, и это тоже не считается эмоциональным пренебрежением.
Люди, которых можно назвать «эмоционально пренебрегаемыми», не знают, каково это – получать заботу и участие, быть полноценной отдельной личностью. И это скорее является результатом качества, а не количества внимания и контакта. Именно субъективное ощущение, что тебя игнорируют, не любят, принимают как должное или просто терпят и совершенно тебе не рады, полагаю, приводит к тому, что люди становятся такими, какими я их описываю в этой книге. По моему опыту, такое субъективное переживание вполне может присутствовать даже в тех семьях, где родители убеждены в том, что они самые любящие люди в мире. Взаимоотношения так многогранны, что даже самые добрые намерения взрослых не являются гарантией того, что ребенок будет чувствовать заботу.
По моему опыту, большинство родителей и опекунов считают, что у них благие побуждения. Однако иногда они действуют вопреки им, например, когда злятся, напряжены или напуганы. При этом они далеко не всегда осознают свое поведение в такие моменты и зачастую оправдывают себя. Возможно, они просто делают все, что в их силах. Я хочу уважать поведение родителей и не собираюсь слепо обвинять их во всех грехах. С другой стороны, я также не намерена соглашаться с теми, кто считает, что у человека было идеальное детство, когда тот явно страдал от эмоционального пренебрежения. Я еще не встречала человека, который был бы встревожен или подавлен по собственному желанию: на то всегда есть причины, и обычно поведение человека – результат его лучших усилий.
У большинства взрослых, которых в детстве игнорировали, были ненадежные типы привязанности в отношениях с опекунами, что проявилось в склонности их защищать. Очень часто «невидимые дети» говорят, что физически не могут плохо отзываться или даже думать о своих родителях/опекунах. Однако для того чтобы успешно сепарироваться, важно вспомнить и проговорить, каким было их детство на самом деле. В рамках этого процесса бывает полезно возложить вину на родителей и разрешить себе позлиться на них. Кроме того, важно объяснить клиентам, что вытащить на поверхность свой субъективный взгляд на детство – это не то же самое, что обвинить и очернить своих родителей. Клиентам зачастую трудно осознать тот факт, что, хотя у родителей могли быть благие намерения и они делали все, что могли, результатом все равно явились страдания ребенка.
Как и многие другие клиенты, «невидимые дети» задаются вопросом, стоит ли им обсудить свое сложное детство с родителями (если те живы). Здесь важно взвесить все за и против: с одной стороны, клиент может улучшить с ними отношения, поговорив о детстве и обсудив версии друг друга. С другой стороны, велика вероятность, что опекуны/родители попытаются «подправить» воспоминания клиента, что не принесет ему пользы. В идеальном мире родители в разговоре с ребенком расскажут ему о том, каким они видят его детство, и поделятся своими чувствами, при этом не нападая и не обвиняя его.
У того, что ребенок не занимает должного места в жизни своих родителей, могут быть различные причины. На это влияют внешние обстоятельства или приоритеты родителей – они могут быть сосредоточены на чем-то другом, например, на своих отношениях, здоровье или работе. В семье могут быть другие дети, по какой-то причине требующие больше внимания, или другие родственники, например, пожилые родители, нуждающиеся в уходе. В целом это обычные бытовые проблемы, и если они не продолжаются долгое время, это не должно повлиять на ребенка, Родителям важно знать, что с ребенком все будет в порядке, если время от времени они будут уделять ему чуть меньше внимания, напротив – он станет немного более независимым и автономным. Но если подобная ситуация затянется на долгое время, будет очень серьезной или о ребенке вообще перестанут заботиться, это может привести к травме. Однако, опять же, только в идеальном мире родители, прежде чем заводить ребенка, учитывают стабильность жизненных обстоятельств и наличие необходимых ресурсов для того, чтобы обеспечивать своим детям постоянные заботу и внимание.
Бывают случаи, когда родители или опекуны находятся в созависимых или абьюзивных отношениях, алко- или наркозависимы либо страдают серьезным психическим заболеванием, таким как депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). В таких ситуациях очевидно, что дети не смогут получить необходимого внимания и в результате будут страдать. Впрочем, если ребенок понимает, в чем причина его страданий, это помогает ему почувствовать себя немного лучше.
Ситуация усугубляется, если оба родителя недоступны, и ребенку не к кому обратиться, когда ему что-то нужно. Чем младше при этом ребенок, тем более пагубны последствия пренебрежения для его дальнейшей жизни. Новорожденные и младенцы намного больше зависят от крепкого, надежного контакта с матерью, и перебои в этом контакте вызовут для них гораздо более серьезные последствия, чем для детей старшего возраста. Безусловно, дети при этом ничего не запомнят – однако воспоминания отложатся в их бессознательном и все равно будут на них влиять.
Есть много родителей, которым не особенно нравятся младенцы, а нравятся дети постарше. И это не значит, что дети таких родителей во взрослом возрасте обязательно будут чувствовать, что пережили опыт пренебрежения, будучи совсем малышами, – это зависит от того, насколько сильно была нарушена привязанность в раннем возрасте. Помимо возраста, в котором ребенок пережил опыт игнорирования (чем он младше, тем более разрушительны обычно последствия), также имеет значение то, как долго это продолжалось, и переставали ли ребенка игнорировать родители/опекуны или все оставалось неизменным до тех пор, пока он не вырос (см. Straus & Kantor. 2005).
Опять же, я не считаю, что каждый ребенок, который пережил эмоциональное пренебрежение, должен найти виноватого. Конечно, существует терапевтический прием, когда клиент обвиняет некую внешнюю силу, однако этот прием хорош только в том случае, когда клиент погряз в самобичевании. В такой ситуации возложение вины на другого человека или внешние обстоятельства – это полезный этап сепарации.
Обычно я опираюсь на субъективные переживания клиента: если он считает, что пережил эмоциональное пренебрежение, мы работаем с этим и не пытаемся искать виноватых. Терапевт не может знать наверняка, кто несет ответственность за ту или иную ситуацию. Он лишь интересуется тем, как ее видит клиент, прекрасно при этом понимая, что у других участников может быть другое видение той же ситуации. Жизнь научила меня, что даже если ни у кого не было злого умысла, люди все равно могут пострадать.
Кроме того, я не считаю полезным обвинять родителей в том, что их не было рядом, что они были в депрессии или занимались чем-то другим вместо заботы о ребенке. Я понимаю, что дети этих родителей злятся, потому что пострадали, и считаю важным обозначить это. Однако я принимаю во внимание и то, что родители могут быть не готовы признать собственные недостатки (причиной которых, к слову, может быть невежество и отсутствие навыков). И допуская, что иногда клиенту важно обвинить кого-то другого (а не самого себя), я все же считаю, что не стоит обвинять других – это чревато конфликтами, да и вообще разрушительно. Поэтому мне кажется более полезным, когда гнев этих клиентов выражается в другом месте – например, в терапии.
Я могу порекомендовать таким клиентам только одно: сосредоточиться на себе, на своем рассказе. Зачастую из желания сохранить хрупкие отношения с родителями и из-за привязанности к ним «невидимые дети» слишком хорошо понимают и принимают их часто кажущуюся разумной точку зрения. Это усложняет терапевтический процесс, поэтому клиенту нужно взглянуть на ситуацию собственными глазами. Я всеми силами стремлюсь к тому, чтобы добраться до собственного опыта клиента, очищенного от рассказов других людей, особенно если они преследовали какие-то свои цели, выдвигая свою версию событий. Важно, чтобы клиент был верен себе, и тогда он достигнет хорошего результата в терапии. Я считаю, что это гораздо важнее, чем пытаться заставить родителей/опекунов признать или искупить свою вину. Благосклонность по отношению к самому себе, стремление к заботе о себе – те качества, которые я стараюсь развить у всех своих клиентов. Если навык заботы о себе сформирован, становится легче почувствовать благодарность к своим родителям/опекунам и иногда даже выразить ее.
Далее я немного подробнее опишу варианты ситуаций, о которых рассказывают клиенты с опытом эмоционального пренебрежения.
Отсутствующие родители или опекуны
Самый простой сценарий, ведущий к эмоциональному пренебрежению, – это отсутствие родителя или опекуна. Причиной может быть болезнь родителя – например, если мать находится в больнице, в том числе из-за медицинских осложнений после родов. Ребенок может лишиться родителя и после его смерти или в результате установления опеки над ним. Кроме того, сюда относятся случаи, когда ребенок был изолирован от мира: например, если он родился недоношенным и был вынужден находиться в инкубаторе. И хотя в настоящее время делается все возможное, чтобы обеспечить детям необходимый физический и эмоциональный контакт даже в такой ситуации, при работе с клиентами старше 50 лет необходимо учитывать вероятность того, что их могли на некоторое время разлучить с матерью в младенчестве или в раннем детстве, если они родились преждевременно или с каким-то серьезным заболеванием. В таких случаях период разлуки с матерью мог составлять несколько дней, недель или даже месяцев. Все это время ребенок был лишен материнской фигуры, что могло сильно повлиять на него и спровоцировать пожизненные последствия.
Мать Оливии отдала ее на удочерение сразу после родов. Оливия видела свое дело об удочерении и знает, что несколько дней провела в больнице, пока для нее искали замещающую семью[1]. В этой семье она прожила полгода, после чего нашлась семья, которая ее удочерила.
Из этого мы можем сделать вывод, что ее ранняя история привязанности сильно нарушена: каждый раз, когда она начинала формировать привязанность, опекун исчезал – и ей приходилось начинать все сначала.
К тому времени, когда ее удочерили, она ощущала мир ненадежным и небезопасным местом, в котором никто не радуется ее появлению. К сожалению, приемные родители не смогли этого понять и приняли ее страх и неуверенность в себе за отсутствие благодарности. «В общем, я очень рано поняла, что родителям прежде всего требуется моя благодарность, и мне было необходимо ее выражать, чтобы они меня полюбили и приняли. Из-за этого благодарность стала моей кошмарной обязанностью, так что в результате я возненавидела само это слово. Представить не могу, что было бы, узнай кто-нибудь, как сильно я все это ненавижу».
У многих взрослых, которых усыновили в младенчестве, осталось чувство, что им в этом мире не рады. То, насколько сложно им справляться с жизнью, как правило, зависит от того, как долго они ждали, пока их усыновит новая семья, а также происходили ли с ними какие-то травматичные события.
Одной из самых серьезных трагедий в ранней жизни ребенка является смерть родителя, особенно если этот родитель был для него главной фигурой. Исследования, проводившиеся в 1950-х и 1960-х годах, ясно показывают связь между депрессией и ранней потерей главной для ребенка фигуры, а также подчеркивают важность заботы и внимания со стороны других лиц, взявших на себя роль опекунов после смерти родителя (Emde. Polak. 1965; Robertson & Robertson. 1989; Spitz. 1965).
Переживая потерю, ребенок может осознанно или неосознанно винить себя в смерти родителя. Зачастую бывает и так, что ребенок сталкивается с обвинениями со стороны других членов семьи, особенно если его мать умирает во время родов, – и вырастает с четким ощущением, что он плохой или даже опасный для других.
Норман потерял мать, когда ему было всего три года, то есть он был слишком мал, чтобы понять, что произошло. Из-за этого его страдания особенно мучительны: у него отсутствуют конкретные воспоминания, а есть только ощущение уныния и безрадостности. Он смутно помнит, что после смерти матери его отдали дальним родственникам, которые по очереди присматривали за ним в течение нескольких недель. Каждый раз, когда он только-только привыкал к опекуну, его передавали следующему.
Он помнит то время как очень мрачное. «Не думаю, что я особо интересовался своими опекунами, как, впрочем, и они мной. Я просто хотел вернуть свою мать или хотя бы отца. Однако мне постоянно говорили, что у него нет на меня времени. Так что в какой-то момент я смирился и просто пытался выжить. Однако мои родственники, как мне кажется, считали меня угрюмым и вспыльчивым. Помню, как разные люди постоянно пытались меня "встряхнуть" и ругали за то, что я такой угрюмый. Я думаю, что так и не смог вырваться из этой депрессии – она стала моим домом», – говорит он.
Депрессия родителей
Послеродовая депрессия – нередкое явление. Значительная часть женщин испытывает подавленные чувства в течение нескольких дней после родов (это состояние также называют «бэби-блюз»), но обычно это довольно быстро проходит и не мешает нормальной связи между матерью и ребенком. Однако у некоторых женщин такое состояние сохраняется в течение недель или месяцев и переходит в более серьезную форму (Murray, 1992; Murray & Cooper, 1996), что может вызвать последствия для ребенка во взрослой жизни.
Многие считают, что причиной послеродовой депрессии являются гормональные изменения в организме, сопровождающие рождение ребенка. Другие, например, Д. Роу, с этим не соглашаются. Как бы то ни было, исследования показывают, что на это во многом влияют психологические факторы, например, была ли у матери депрессия раньше, есть ли у нее эмоциональная поддержка со стороны близких, а также насколько трудным или даже травмирующим был опыт самих родов (Field et al., 2008; Milgrom et al., 2008; Reynolds, 1997).
Когда молодая мать находится в серьезной депрессии, она не реагирует на ребенка, постоянно чем-то озабочена, замкнута в себе и часто пребывает в плохом настроении (Cori, 2017). А поскольку эмоциональное и физическое благополучие ребенка в значительной степени зависит от чуткости родителя/опекуна, эта ситуация ведет к нарушениям психологического развития. У ребенка не будет первичной уверенности в том, что мир рад его появлению, он не увидит счастья в глазах родителя и не почувствует всеобъемлющей любви. Кроме того, при таком контакте ребенок будет лишен нормального взаимодействия с родителем, потому что не будет видеть его реакций на себя и свои потребности.
Эд Троник провел эксперимент под названием «Застывшее лицо», который показал, насколько тяжело приходится младенцу, если родитель/опекун не проявляет никаких реакций (Cohn & Tronick, 1983; Weinberg et al., 2008). В интернете есть несколько видеозаписей этого эксперимента, и смотреть их мучительно тяжело – в особенности тем, чье детство прошло рядом с депрессивными матерями (Tronick, 2009). У эксперимента с неподвижным лицом есть несколько подходов: каждый длится всего по несколько секунд, однако этого достаточно, чтобы хрупкая защита эго ребенка существенно пошатнулась – вплоть до частичного нарушения координации движений. Трудно представить, как ребенок может находиться в подобной ситуации неделями или даже месяцами, но очевидно, что это серьезно влияет на развитие его мозга.
Однажды Мортимер спросил своих родителей об обстоятельствах, при которых он родился. Его мать отреагировала мгновенно: «О, это было ужасно. Я думала, что родить ребенка не сложно, но роды оказались невероятно долгими и болезненными, поэтому я поклялась себе, что больше никаких детей – достаточно одного. Мне потребовались месяцы, чтобы восстановиться как физически (у меня были огромные шрамы, которые очень болели), так и эмоционально, потому что я злилась на себя из-за того, что все это оказалось для меня так сложно. Окончательно меня доконал недостаток сна, а твой отец не то чтобы сильно мне помогал. Так что в течение года я все глубже погружалась в депрессию. Мне стало полегче только после того, как тебе исполнился год. Однако сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что на самом деле была в депрессии несколько лет».
Мортимер был поражен, потому что она никогда раньше ему об этом не говорила. Ее слова вызвали в нем сильнейшее чувство вины, хотя он и понимал, что не виноват в трудностях, с которыми пришлось столкнуться его матери. Однако он настолько отождествлял себя с ней, что не мог не почувствовать, что причинил ей боль просто тем, что родился.
Ему потребовалось много времени, чтобы осмыслить свой детский опыт, на самом деле трудный и очень несчастный. Его рассказ подтвердил мою теорию о том, что он готов пойти абсолютно на все, если это может сделать его мать счастливее.
Клиентов, чьи матери пребывали в депрессии после родов, как правило, объединяют определенные черты. В детстве они были удивительно послушными, но при этом тревожными. Более того, многие из них жили в своего рода эмоциональном тумане, не понимая собственных чувств. Это может быть прямым следствием отсутствия раннего родительского отзеркаливания. Степень страдания ребенка зависит от того, насколько сильной была поддержка у его матери. Кроме того, очень важно, заботился ли кто-то о ребенке во время депрессивной фазы матери – если да, то ущерб для него был меньше. Если ребенок часто оставался на попечении депрессивного родителя, он мог ощущать себя будто в тюрьме: слишком тихо, мало человеческого контакта, недостаточно игр – и слишком много времени приходилось просто ждать и быть «хорошим».
Занятость родителей
Некоторые родители/опекуны могут быть настолько озабочены собой и своими потребностями, что пренебрегают потребностями детей, которые находятся на их попечении. В эту категорию попадают все родители, которым сложно принять ответственность и находиться в роли родителя постоянно, в результате они берут на себя эту роль лишь время от времени (Gibson, 2015). Сюда же можно отнести матерей, которые еще сами остаются детьми или настолько нуждаются во внимании и заботе, что конкурируют за них со своим ребенком и в конечном итоге завидуют всему тому, что он получает. Также есть родители, которые рассматривают ребенка как продолжение себя, а не как отдельную личность. Есть те, кто относится к детям как к модным аксессуарам или «лепит» из ребенка идеальную версию себя – того, кем они сами хотели бы быть. Некоторые родители используют детей, чтобы почувствовать себя любимыми (потому как всем известно, что дети испытывают к родителям безусловную любовь – и так будет всегда), а также для того, чтобы дать ребенку то, чего они сами не получили в детстве. Такие родители сами вполне могли быть «невидимыми детьми» в прошлом и теперь они передают проблемы следующему поколению.
Все эти родители эмоционально недоступны для детей, не умеют с ними взаимодействовать, видеть в них отдельных людей, проявлять интерес и заботиться об их эмоциональном благополучии. Дети таких родителей неизбежно будут сталкиваться с игнорированием – как физическим, так и эмоциональным.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Замещающая семья – форма семейного жизнеустройства ребенка, утратившего связь с биологической семьей, которая приближена к естественным условиям жизнедеятельности и воспитания и обеспечивает наиболее благоприятные условия для его индивидуального развития и социализации. – Прим. ред.