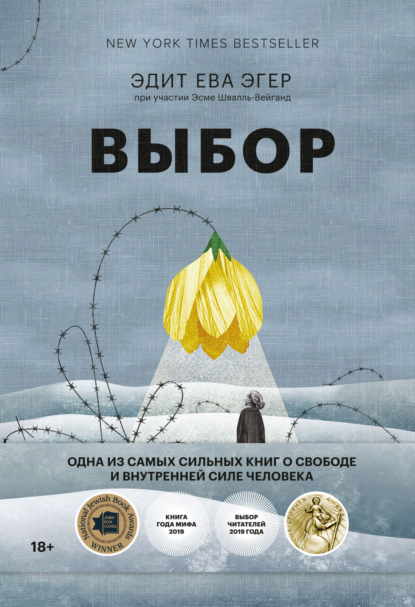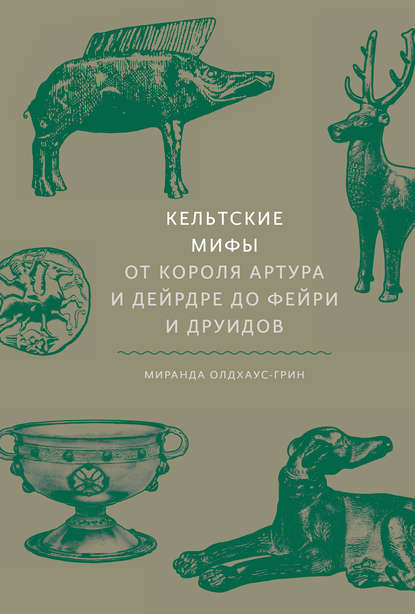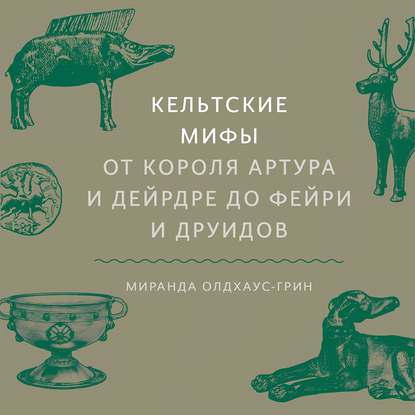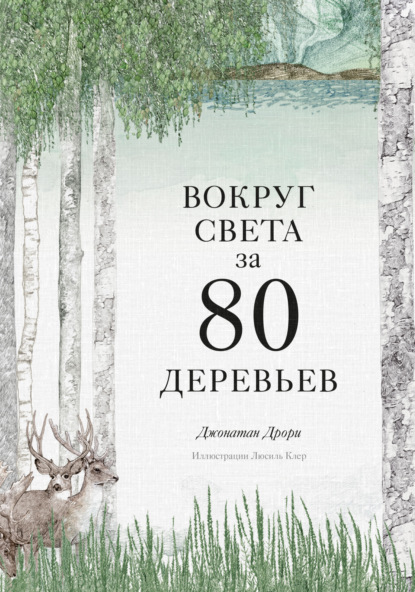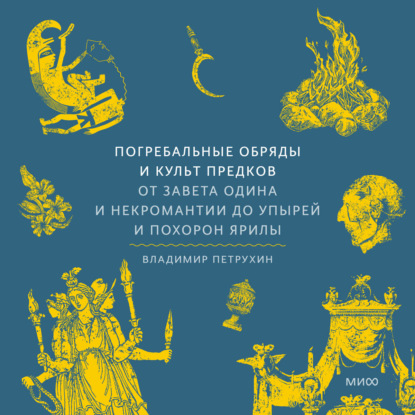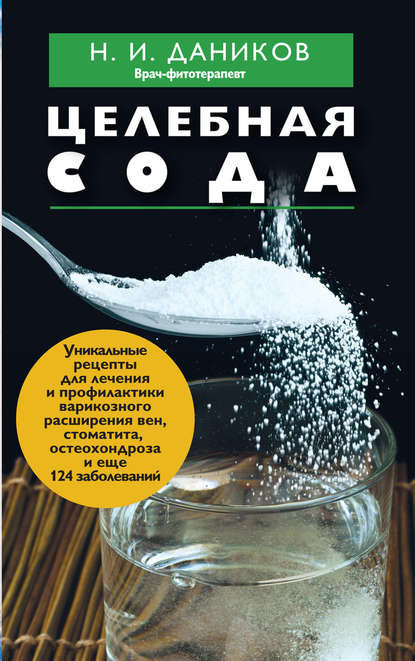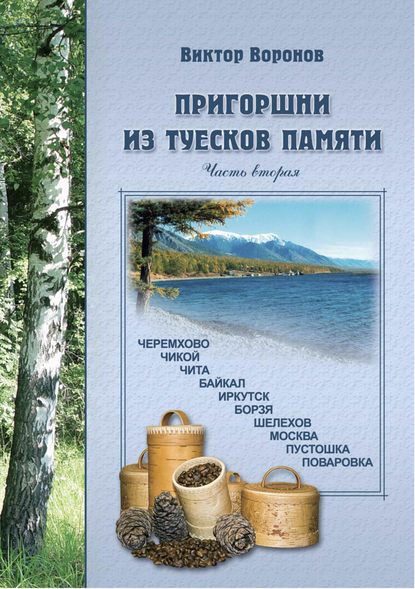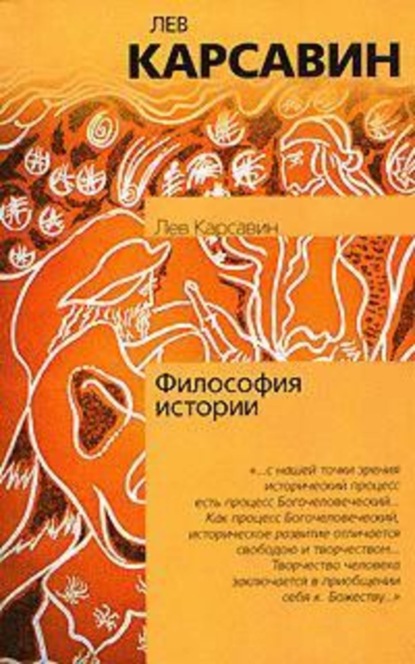Интимная Япония

- -
- 100%
- +
На этот остров [они] спустились с небес, воздвигли небесный столб, возвели просторные покои. Тут спросил [Идзанаги] богиню Идзанами-но микото, свою младшую сестру: «Как устроено твое тело?»; и когда так спросил – «Мое тело росло, росло, а есть одно место, что так и не выросло», – ответила. Тут бог Идзанаги-но микото произнес: «Мое тело росло, росло, а есть одно место, что слишком выросло. Потому, думаю я, то место, что у меня на теле слишком выросло, вставить в то место, что у тебя на теле не выросло, и родить страну. Ну как, родим?» Когда так произнес, богиня Идзанами-но микото ответила: «Это [будет] хорошо!»
Тут бог Идзанаги-но микото так произнес: «Если так, я и ты, обойдя вокруг этого небесного столба, супружески соединимся». Так условившись, тут же: «Ты справа навстречу обходи, я слева навстречу обойду», – произнес, и, когда, условившись, стали обходить, богиня Идзанами-но микото первая сказала: «Поистине прекрасный юноша!» – а после нее бог Идзанаги-но микото сказал: «Поистине прекрасная девушка!» И после того как каждый сказал, [бог Идзанаги] своей младшей сестре так возвестил: «Нехорошо женщине говорить первой». И все же начали [они] брачное дело, и дитя, что родили, [было] дитя-пиявка. Это дитя посадили в тростниковую лодку и пустили плыть.
За ним Авасима – Пенный остров родили. И его тоже за дитя не сочли[21].
Идзанаги и Идзанами за сотворением земной тверди
Вышеприведенные отрывки из «Кодзики» не демонстрируют нам опытности богов-демиургов. Наоборот, и боги ошибаются, нуждаясь в советах иных мудрейших богов. Самая главная ошибка, которая была допущена в брачном ритуале, – то, что молодая жена заговорила с мужем первая, взяла на себя инициативу. Расплатой за нарушение социальных ролей стало рождение «неправильных» детей[22]. Но в этом сюжете также необходимо обратить внимание на столб, который обходят молодожены. Боги это делают в определенном порядке: женщина обходит столб справа, а мужчина – слева.

Идзанаги, Идзанами и трясогузка
Нисикава Сукэнобу, XVIII в. The Metropolitan Museum of Art
Дело в том, что японцы ко времени записи «Кодзики» были знакомы со многими китайскими ритуалами и старались перенимать то, что казалось им важным и необходимым для японского общества.
Воздвижение столба, который обходили с песнями, часто сексуальной тематики, – распространенный в Китае и других местах обряд культа плодородия. Во многих китайских классических книгах, начиная с философского трактата династии Хань «Хуайнаньцзы» («Трактат учителя из Хуайнани», ок. 139 г. до н. э.), говорится о том, что мужчина должен двигаться по кругу слева, а женщина – справа, а также о том, что относительно созвездия Большой Медведицы небо вращается слева направо, а земля – справа налево. Превосходство левого над правым отражает китайскую иерархию этих понятий. Китайским заимствованием объясняют комментаторы и правило, по которому в брачном обряде первым должен говорить мужчина[23].
Как мы видим, придворный историограф О-но Ясумаро, составитель «Кодзики», был хорошо знаком с китайскими даосскими трактатами по эротологии, поскольку в популярном в Древнем Китае трактате «Дун-сюань-цзы» («[Учитель], Проникший в таинственную тьму / Учитель из сокровенной пещеры», V–VII вв.) изложены все принципы правильного обхода столба при совершении брачного обряда.
Именно из Китая пришел в Японию сюжет о вращении и кручении копья в морской пучине, когда Идзанами и Идзанаги старательно создавали из моря земную твердь. Мы видим и здесь некий символический акт соития с участием фаллоподобного предмета – копья.
Несколько по-детски наивно и забавно могут звучать слова Идзанаги и Идзанами о собственных гениталиях, однако их доводы о том, что у одного слишком выросло, а у другого так и не выросло, выглядят весьма логично. И тем не менее одной занимательной анатомии было недостаточно – опытным учителем по искусству любви для богов-молодоженов стала самая обычная трясогузка.
Когда боги-супруги выяснили, что у них есть все необходимое для соития, они также поняли, что уроков полового воспитания им никто не давал, но тут внезапно прилетели две трясогузки – самец и самка – и начали спариваться, тряся хвостами и покачивая головами. Они и стали первыми учителями демиургов. Особо искушенные исследователи делают из этого вывод о том, какая поза была самой первой. В городе Мисима префектуры Сидзуока и в префектуре Хиросима трясогузку до сих пор считают божественной птицей[24].
Позже даже появится такое приспособление, как сэкирэй дай («подставка трясогузки»), – вспомогательный инструмент, который подкладывают женщине под талию, чтобы облегчить миссионерскую позу. В эпохи Муромати и Эдо такую подставку-подушку клали в изголовье новобрачной, чтобы та могла подложить ее под спину или опереться на нее при позе сзади.

Вид на залив Футами-га-ура
Утагава Кунисада, 1828–1832 гг. Две скалы, соединенные веревками, символизируют Идзанаги и Идзанами. The Rijksmuseum
Возвращаясь к божественным молодоженам, стоит забежать вперед и уверить наших читателей в том, что после неудачного брачного ритуала они обратились за советом к мудрейшим богам, которые указали на ошибку супруги. Во время следующего ритуала Идзанаги первый заговорил с женой, гармония была восстановлена, и божественная пара настолько овладела искусством любви, что на протяжении всего первого свитка мы встречаем сотни имен новорожденных богов в облике всевозможных стихий и природных объектов. Полезный урок от трясогузки, как мы убедились, также был усвоен успешно. Все божественные отпрыски стали основой страны, названной Японией, которую уже можно было заселять людьми.
Сами боги показали людям, что секс между мужчиной и женщиной – естественный процесс, главная цель которого – рождение детей, а значит, в нем нет ничего постыдного. Идея, что это занятие может быть греховным, возникнет в Японии еще очень нескоро.
Утагаки – оргии во время посевной
Пока в VIII веке полным ходом шел сбор материалов и составление мифологического свода «Кодзики» с его своеобразной интерпретацией неопытности богов-демиургов, простой народ не терял времени даром. Неотъемлемой частью сельскохозяйственного цикла в Японии был ритуал утагаки (歌垣) – религиозное действие, обряд, посвященный празднованию обильного урожая и молитве о будущем плодородии. Недаром в слове «утагаки» заключен смысл «вызов на песню», «запевки», ведь в те давние времена молитвенное прошение к богам плодородия, земли было песней в исполнении двух полухориев, мужского и женского. Песни сопровождались пляской, ритуальным разведением костров и последующими брачными играми. Смысл утагаки заключался в умилостивлении земли, благодарности за прошлые урожаи и просьбе даровать богатый урожай в новом сезоне. Основной посевной культурой был рис, а рисосеяние подразумевает сплоченный коллективный труд, совместную молитву и обрядовые действия. Судя по песням, вошедшим в поэтическую антологию эпохи Нара «Манъёсю» («Собрание мириад листьев»), которая превосходно отражает народную повседневность, ритуалы, обычаи, радости и переживания, проводились утагаки в определенных горах, которые в синтоизме считались сакральными и неоскверненными, а потому были местами обитания богов-ками.
Ритуал совершался дважды в год: весной, когда появляются всходы, и осенью, во время сбора урожая. Сексуальная составляющая утагаки была крайне важной частью обряда, ведь именно тогда селянам предоставлялась полная свобода действий: вспаханное поле мыслилось как место для знакомства и флирта юношей и девушек деревни, которые искали брачного партнера (партнершу) или любовника (любовницу). Своими действиями любовники должны были пробудить землю после зимней спячки.
Начиная с VIII века утагаки отделяется от сельскохозяйственного ритуала и становится чем-то вроде развлечения и способом сближения мужчин и женщин (как состоящих, так и не состоящих в брачных отношениях)[25].
Мужчины и женщины, собравшиеся в горах или на побережье, сближались друг с другом в беседе, за совместной трапезой, после которой начинались песни в форме шуточного обмена репликами. Девушки и парни делились на группки и поочередно хором шутили и флиртовали друг с другом. Подобные соревнования в остроумии имели определенное значение: побеждала команда, в песнях которой было больше смысла, особой прелести и мастерства. Вполне возможно, проигравшая сторона вступала в контакт с противоположным полом или таким образом нужно было приглянуться будущему партнеру своим талантом. Сегодня сложно что-то утверждать, но, к счастью, поэтическая антология «Манъёсю» донесла до наших дней превосходные образцы подобных песен.
Песня, сложенная в день Кагахи при восхождении на гору Цукуба[26]На горе, на Цукуба,Где живут среди пиков орлы,Среди горных отрогов,Где струятся в горах родники,Зазывая друг друга,Девы, юноши вновь собрались.У костров у зажженныхБудут здесь хороводы водить,И чужую жену буду я здесь сегодня любить,А моею женою другой зато будет владеть.Бог, что власть здесь имеетИ правит среди этих гор,Дал на это согласие людямЕще с незапамятных пор.И сегодня одно про себя хорошо разумей:И мучиться тоже не смей![27]Тем не менее смысл утагаки заключался в первую очередь в высвобождении накопившейся сексуальной энергии, усталости или агрессии. Из-за своего массового характера этот ритуал никого не обязывал к дальнейшей ответственности, в такие дни члены общины могли свободно вступать в связь друг с другом без какого-либо стыда и угрызений совести. В этом ритуале важно было оросить землю семенем и веселиться, чтобы почве передалось возбуждение людей. Ну а сами участники массовой оргии после такого празднества, думается, чувствовали себя отдохнувшими, наполненными новой энергией и готовыми трудиться дальше.
В провинции Хитати[28] большой популярностью пользовалась похожая форма брачных игр, которая называлась кагаи. Во время кагаи разжигали костер и вокруг него водили хоровод мужчины и женщины. После они попарно уединялись в лесу или в поле, где проводили вместе всю ночь. В те далекие времена это не рассматривалось как нарушение брачной клятвы: всего на одну ночь брачные узы теряли свою силу. Кагаи, так же как и утагаки, были тесно связаны с весенне-осенними посевными работами[29].
Устраивались ли подобные обмены задорными песенками в последующие века – нам неизвестно, но если принимать во внимание тот факт, что песенно-стихотворное обращение, как и пляска или мистерия, расценивалось в древности как подношение богам и духам природы, то думается, что эта творческая составляющая оргии могла сойти на нет.
Документов и материалов, описывающих конкретное содержание ритуалов утагаки, очень мало. Небольшое количество можно найти в письменных источниках древности «Кодзики» («Записи о деяниях древности», 712 г.), «Нихон сёки» («Анналы Японии») и «Манъёсю» («Собрание мириад листьев»), но после 700 года н. э. информации о них нет.
Еще одна песня из «Манъёсю» повествует о визите придворного Отомо в провинцию Хитати с целью весело провести время на горе Цукуба в окружении прекрасных дев.
Песня № 1735 из поэтической антологии «Манъёсю»Замочил здесь принц в колодце рукава…И страна была Хитати названа.В той стране ХитатиТы мечталНа гору Цукуба посмотреть,Где стоят красивоДве вершины в ряд, —И явился наконец сюда.Хоть и жарко было нам с тобой,Лился пот и, уставая, ты вздыхал,Шел, цепляясь каждый раз с трудомЗа деревьев корни на ходу,Но, к вершинам приближаясь,Песни пел.И когда тебя привел я наконецНа вершины дивные взглянуть,Бог мужей нам разрешение послал,И богиня жен добра была.Ярким солнечным лучом ониОсветили те вершины, что всегдаБыли раньше в белых облаках,Где без времени всегда на нихС облаков небес лил сильный дождь…И когда узрели мы в тот мигЯсно ширь родной своей страны,Что неведома была досель,Стали радоваться мы с тобой!Развязав шнуры одежд,Словно дома у себя,Не стесняясь,Всей душой,Вольно веселились мы!Хоть и густо разросласьЭта летняя трава,Но насколько лучше намИ приятней нынче здесь,Нежели вешнею поройВ дни туманные весны…Ночные свидания – ёбаи
В древнем и раннесредневековом обществе у разных народов мира были свои взгляды на то, как следует делать предложение даме сердца. Ждали ли японские девушки на выданье от своего избранника хоть капли романтики и на что были способны сами женихи?

Из сборника эротических гравюр
Утагава Кунисада, 1837 г. The Metropolitan Museum of Art
Выше уже говорилось о свободе сексуальных отношений, их естественности и необходимости, поэтому нетрудно догадаться, что представлений о конфетно-букетном периоде у древних японцев попросту не существовало.
Помимо тех самых двух ежегодных массовых оргий – утагаки, – о которых уже шла речь выше, у сельской молодежи были и иные способы получить сексуальный опыт.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Notes
1
Дээнъяку доккай кого дзитэн (Полный словарь для чтения и перевода древних слов японского языка). – 2-е изд. – Токио, 2001. – С. 117.
2
Боги, святилища, обряды Японии: энциклопедия синто / под ред. И. С. Смирнова; отв. ред. А. Н. Мещеряков. (Orientalia et Classica: Труды института восточных культур и античности; вып. 26). – Москва: РГГУ, 2010. – С. 81.
3
Научно-популярный журнал Japaaan Magazine (на яп.). https://mag.japaaan.com/archives/162535/2.
4
Исида Эйитиро. Мать Момотаро. Исследование некоторых аспектов истории культуры / пер. с яп. А. М. Кабанова, посл. А. М. Кабанова и Ю. Е. Березкина. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 135–138.
5
Березкин Ю. Е., Дувакин Е. Н. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог. https://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/.
6
«Виная-питака» – в переводе с пали «Корзина дисциплины», первая из трех частей «Трипитаки», священного писания для буддистов. Содержит правила и нормы поведения монахов и монахинь.
7
Gilmore D. D. Misogyny: The Male Malady. – University of Pennsylvania Press, 2001. – P. 41–42.
8
Подробнее см.: Садокова А. Р. Фольклорный мотив о мифическом любовнике в древней и раннесредневековой японской литературе // Studia Litterarum. – 2019. – № 4. – С. 294–315.
9
Подробнее см.: Садокова А. Р. Фольклорный мотив о мифическом любовнике в древней и раннесредневековой японской литературе // Studia Litterarum. – 2019. – № 4. – С. 304.
10
Фрагменты из «Нихон рёики» здесь и далее цитируются в переводе А. Н. Мещерякова.
11
Приводится в переводе А. Н. Игнатовича по изданию: Легенды из «Нихон рёики» // Народы Азии и Африки. – 1981. – № 3.
12
Имеется в виду император Дзюннин, 3-й год правления эры Тэмпё-ходзи (по году интронизации и девизу правления) равен 759 году.
13
1 сяку равен 30,3 см.
14
1 то равен 18,039 л.
15
1 сё равен 1,804 л.
16
Приводится в переводе А. Н. Мещерякова по изданию: Нихон рёики. Японские легенды о чудесах. Свитки 1, 2 и 3. – Санкт-Петербург, 1995. – С. 194.
17
Приводится в переводе А. Н. Мещерякова по изданию: Нихон рёики. Японские легенды о чудесах. Свитки 1, 2 и 3. – Санкт-Петербург, 1995. – С. 210–211.
18
Юные девственные прислужницы при синтоистских святилищах.
19
Подробнее см.: Исида Эйитиро. Мать Момотаро. Исследование некоторых аспектов истории культуры / пер. с яп. А. М. Кабанова, посл. А. М. Кабанова и Ю. Е. Березкина. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 125–128.
20
Перевод Е. М. Пинус.
21
Кодзики. Записи о деяниях древности. Свиток 1 / пер. с древнеяп. Е. М. Пинус. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 53, 56–58.
22
О нарушении табу и рождении неправильного дитя подробнее см. в коммент. к «Кодзики» по изданию: Кодзики. Записи о деяниях древности. Свиток 1 / пер. с древнеяп. Е. М. Пинус. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 197–200, 203–204.
23
Об обычае воздвижения столба и устроении брачных покоев вокруг него подробнее см. в коммент. к «Кодзики» по изданию: Кодзики. Записи о деяниях древности. Свиток 1 / пер. с древнеяп. Е. М. Пинус. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 191–195.
24
Трясогузки упоминаются в памятнике древнеяпонской литературы «Анналы Японии» («Нихон сёки», VIII в.) как «птицы, познавшие тайны любви».
25
Подробнее см.: Садокова А. Р. Культ горы Цукуба: специфика обряда и древняя японская поэзия // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2024. – № 3. – С. 900–905.
26
Здесь и далее песни из поэтической антологии «Манъёсю» приводятся по изданию: Манъёсю («Собрание мириад листьев») / пер. с яп. и коммент. А. Е. Глускиной. Т. 1–3. – Москва, 1972.
27
Здесь и далее песни из «Манъёсю» цитируются в переводе А. Е. Глускиной.
28
Хитати – историческая провинция в Японии, в регионе Канто, на востоке острова Хонсю. Соответствует современной префектуре Ибараки.
29
Суровень Д. А. Брак в древнеяпонском праве // Российское право. Образование, практика, наука. – 2015. – № 2 (86). – С. 60.