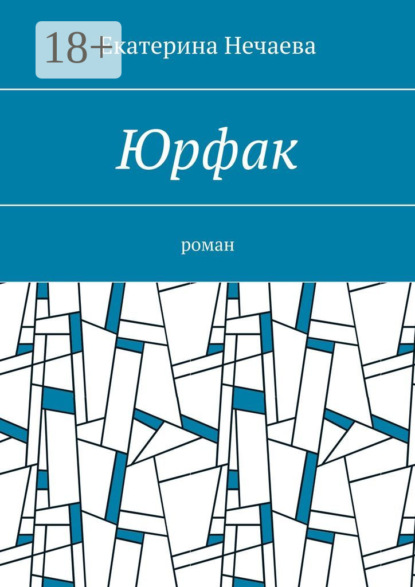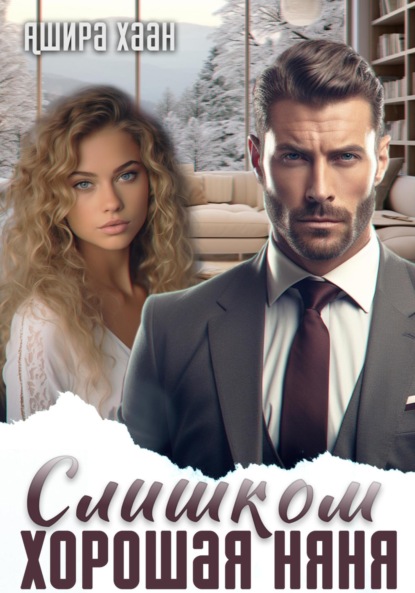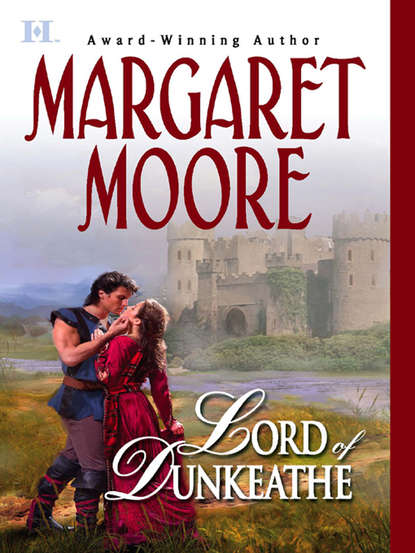Сага белых ворон 1. Родное гнездо
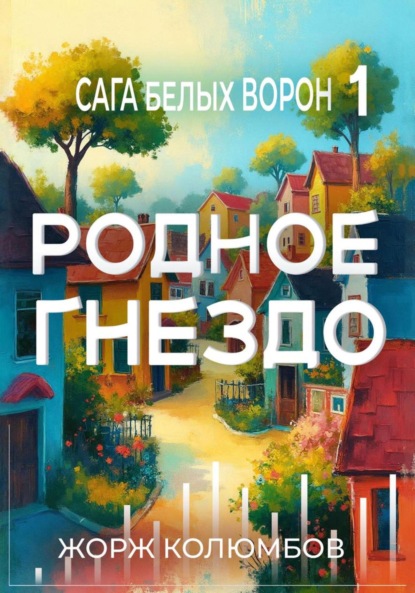
- -
- 100%
- +
Глава 3. Кедринск
Август 1973 года, Кедринск, 8 лет
А потом было лето… Хорошо, когда у тебя есть бабушка. Еще лучше, когда две: можно жить то у одной, то у другой. И бабушкам не обидно, и Торику разнообразие, ведь это два очень разных мира, каждый со своим укладом и людьми.
Сегодня Торик проснулся у бабушки Саши. Когда-то в этом крестьянском доме под соломенной крышей родилась мама, но с тех пор многое изменилось. Крыша теперь настоящая и покрыта шифером. Недавно провели электричество, подключили радиоточку. Правда, готовила бабушка по-прежнему на печке да на керосинке, а вместо холодильника молоко и масло ставили в тазиках прямо на землю в «прихожей», которая здесь называлась «сенцы» – маленькие сени.
Громко цыкали маятником часы, тяжелая гирька медленно опускалась все ближе к полу. На часах – кошачья мордочка, а в прорезях с каждым качанием маятника лукаво бегали зрачки зеленых глаз.
– Доброе утро! – раздался вдруг задорный девичий голос. – Вы слушаете «Пионерскую зорьку»!
– В эфире «Пионерская зорька», – бодро подхватил парень.
Зазвучала музыка, начались репортажи с мест, но это мало интересовало Торика. Он неуклюже сполз с печки-лежанки, где была устроена постель, натянул шорты и рубашку, убавил громкость радио и уселся на сундук за стол.
– Проснулси никак? Оладушки буишь?
Скрипучая дверь, обитая толстым слоем дерюги, впустила в дом бабушку Сашу.
Торик без труда понимал ее выговор, хотя отвечал на привычном, городском, не пытаясь ее передразнивать. Вот бабушка Маша, ее сестра, прожила лет на двадцать больше, так ее понимать сложнее. Поначалу в их семье было девять братьев и сестер, а потом… Не все мужчины вернулись с войны, женщины выходили замуж и уезжали, родители умерли.
На стене висели пожелтевшие фото – без рамок, просто так, почти весь семейный архив. Там, в застывшем мире прошлого, все еще были живы и жили вместе, здесь. А теперь в доме остались только две сестры.
– Буду, конечно!
Когда бы он отказался малость подкрепиться? В этом Торик очень поддерживал Винни-Пуха. Бабушка довольно улыбнулась: какое счастье, когда не надо внука уговаривать!
– А на обед, тадазначица, у мине запланирван кулешик грибной, помнишь, вчарася говорушки-то собирали с тобой?
– Помню, много нашли за Гневней.
Торика позабавило внезапно всплывшее у бабушки официальное словцо «запланирован». Говорушками местные жители называли луговые опята. Бабушка – большая мастерица по части приготовить что-нибудь вкусное буквально из ничего. «Жись каво хошь научит», – невесело усмехалась она каждый раз, когда Торик узнавал от нее что-то новое. Как вместо мыла можно стирать травой мыльнянкой, а стебельки «баранчиков» (первоцвета) не просто можно жевать, они еще и больное горло лечат.
– На вот, пойишь, оно и голова враз просветлеется, и в руках силы прибавится, – приговаривала бабушка, ловко расставляя на столе оладьи, творог, печеное яйцо, хлеб и чашку чая.
– Я тож тады ща-аю попию, – неожиданно присоединилась бабушка Маша, старшая сестра бабушки, живущая вместе с ней. – Я хучь яво и не люблю, но штойто яблыщка хотца.
Дрожащей рукой она взяла маленький нож с кривым лезвием, неспешно покрошила еще зеленое яблоко, высыпала в чашку с чаем и накрыла сверху блюдцем.
– Зуб нету, – донеслось сквозь череду пыхтения, – а йись-то хотца. Няхай варятся, они-то, они-то.
Торик мысленно перевел для себя: «Зубов нет, но есть хочется. Пусть заварятся, полежат так, оставлю». Бабушку при желании вполне можно понять.
– Спасибо, – сказал Торик, вылезая из-за стола, – я пойду?
– Уходишь уже? – огорчилась бабушка.
– К вечеру вернусь, – пообещал Торик. – К ним сегодня дядя Миша приезжает, будут разговоры…
– Разговоры-д-разговоры, слово к слову тянется… – вдруг звонко запела бабушка. Она легко переходила к песням, словно песни жили рядом, только потянись. – Ладно тада, ступай с богом. Время не дремя!
«Время не спит»? Торик улыбнулся. Сколько же у бабушки крестьянских поговорок и пословиц! На каждый случай из жизни – не менее дюжины. Вот тебе и неграмотная крестьянка!
Скрипнула и притопнула толстой дерюгой дверь. Через сенцы, через терраску, оклеенную смешными картинками из журналов, Торик выбрался на улицу и огляделся. Старенький, замазанный глиной дом Жинтель покрыл тонкими досочками и покрасил. Прямо перед окнами росли высоченные, с человека, золотые шары. Вокруг раскинули свои огромные ветви клены, а за домом виднелась вершина холма, который местные жители с почтением называли гора Гневня.
Почему – уже никто не помнил. Кедринск – поселение древнее, старше самой Москвы будет. Но рассказывали так. Некий то ли князь, то ли царь, приехав сюда, очень рассердился на свою супругу, разгневался да и скинул ее, неугодную, с той горы вниз. Будто бы в память об этом и назвали холм. Дальше будет Покровский бугор, за ним – Почтовая гора. Но это уже далеко, у дома бабушки Софии, куда предстояло сейчас идти.
Внизу шумел широкий ручей, который когда-то называли речкой Пральей. Мама рассказывала, что в детстве в этой речке купалась. Как же все изменилось, кто бы мог подумать! Сейчас даже нескладный Торик, разбежавшись, мог перепрыгнуть эту «неодолимую преграду».
Чуть в стороне от дома, у старой антоновки, торчал, скособочившись, лилово-коричневый картофельный погреб. Как хорошо бывало забираться на его нагретую солнцем плоскую крышу и лежать, в небеса глядючи и обо всем на свете размышляючи. Или сидеть, свесив ноги и радуясь разнообразию зеленого вокруг, не забывая грызть очередное яблочко. Антоновка, снова зовешь к себе? Нет, только не сегодня!
Приезд дяди Миши всегда означал новости, вкусности и всяческие интересности. Пропустить такое – все равно что отказаться от торта, когда тебе его уже дали. Торик с чувством вдохнул запах луговых трав, спустился с пригорка, где остался грустить бабушкин дом, и отправился в путь.
«Дорога туда. Дорога сюда. Дорога ВЖК» – вспомнился указатель из Волшебной страны, так ярко описанной Волковым. Дорога, вымощенная желтым кирпичом, манила и тут. Хорошо, пусть не вымощенная, пусть без кирпичей, зато целая дорога чистого желтого песка.
Идти было легко и приятно. Лето пахло то нагретым песком, то терпкой крапивой, то водорослями с реки, а жизнь казалась нескончаемой. Вот справа остался новый колодец. Ворот, узкое общее ведро на длиннющей цепи…
Дальше слева стоял «Зюзин дом», покосившийся, по окна вросший в землю. В его тени притулился замшелый пенек, где неизменно сидела и сама старушка Зюзина. Сейчас она щурилась на солнце и неутомимо щипала, перебирала и расправляла морщинистыми руками невнятные клочья свалявшейся овечьей шерсти. В этом было что-то неправильное. Казалось, шерсть сама по себе движется и живет своей иллюзорной жизнью, а бабуля, наоборот, настолько неподвижна, что напоминает лишь тень некогда живой и настоящей женщины. «Ее насмешливый призрáк и днем и ночью дух тревожит…» – всплывшая откуда-то в памяти строка вдруг вызвала озноб. Или это просто подул ветерок с реки?
Здесь дорога резко сворачивала вправо, открывая речку Кедринку, в честь которой и назвали Кедринск. Торик помнил, какой маленькой она была два-три года назад: взрослые легко переходили ее вброд. Но потом неподалеку начали строить электростанцию, реку запрудили, отгородили водохранилище, и вода с каждым годом поднималась.
Дорога теперь круто вела в гору, теряла свою желтую песочность, превращаясь в сухую глину. Один за другим дома оставались позади. Вот высокая сетчатая калитка Зайцевых. Дядя Витя Зайцев, бабушкин племянник, в школе был лучшим другом папы. Сколько же они тут вдвоем чудили!
– Здравствуй, Толь! – внезапно прозвучал скрипучий, но доброжелательный голос от калитки. – К своим идешь?
– Здравствуйте, дядь Вить, – всех родственников отца полагалось звать на «вы», это правило Торик усвоил. – Да, сегодня дядя Миша должен приехать.
– Зайди на минутку, я хоть тебе свои ёлеки покажу. Ёлеки у меня знатные вымахали, – как обычно, заскрипел-затараторил дядя Витя, пока его не перебили. Буква «л» у него получалась своеобразной – не твердой и не мягкой, а какой-то средней.
Дядю Витю часто посещали необычные идеи, а потом он их самоотверженно воплощал. Однажды они всей семьей съездили в Ленинград, откуда попали на экскурсию в Петергоф. Золотые фонтаны, дворцы, незнакомые деревья – все это дяде Вите очень нравилось. Но самое большое впечатление произвел летний домик Петра – Монплезир, «мое удовольствие», или «моя радость». Не сходя с места, дядя Витя решил, что обязательно сделает себе такой же! Ну, такой или не такой – дело десятое. Но уже следующим летом в саду у Зайцевых красовалась новая беседка, которую дядя Витя гордо называл своим Монплезиром.
Так что папа, хоть иногда и посмеивался над причудами дяди Вити, уважал его за мастерство (он был отличным сварщиком) и за то, что слова у него не расходились с делом. А еще оба они были безудержными романтиками.
– Вон они какие, ёлеки-то! – суетился дядя Витя. – А сначала как все плёхо былё! Сажал ёлеки и тут, и там – сохнут, и все, ни в какую! А эти вот две выжили. Я смеюсь: они как гвардейцы по обе стороны крыльца стоят в почетном карауле. И знаешь что, Толь? Потом-то, уже после, меня не будет, а ёлеки мои останутся!
Елки и правда выросли почти до крыши дома, ровные и статные, и даже летом нарядные, новогодние. Торик вежливо покивал, попрощался и продолжил свой путь. Отсюда до бабушкиного дома совсем недалеко – подняться на горку да спуститься почти до реки.
Вот знакомый ряд столбов, каждый в виде буквы «А», словно кто-то написал их в огромных прописях. Вот «Запасный лес» – с полдюжины вязов, которые сажал еще прадед. Уф, пришли, вот он, дом бабушки Софии, который в шутку иногда называли «дворянское гнездо». В шутку – потому что никаких дворян здесь отродясь не водилось.
Столетние липы расступились, пропуская Торика к ступеням крыльца.
Глава 4. Дворянское гнездо
Дом этот – двухэтажный, с мощным старинным подвалом из красного кирпича – мало напоминал «домик над Пральей», где недавно проснулся Торик.
Открыла тетя Таня в переднике поверх цветастого сарафана и улыбнулась – доброжелательная, деловая и конкретная, как обычно.
– Пришел? Здравствуй. Дядя Миша уже приехал, смотрит сад. Проходи туда, а то у меня блины в самом разгаре.
– Здравствуйте, – только и успел ответить Торик спине тети.
Официально тетя работала окулистом. А неофициально… Все окрестное Подгорье десятилетиями ходило к «доктору Тане» по самым разным поводам – от кашляющих детей до коровы, подвернувшей ногу.
Торик прошел коридор насквозь и вышел в сад, царство бабушки Софии.
Прямо у дома примостилась небольшая сакура, подальше – два пышных грушевых дерева. А все остальное пространство занимали цветы – самые разные: простые и изысканные, экзотические и привычные, любых цветов, размеров и форм.
Торик шел мимо многоцветного моря, едва обращая внимание на тот или иной цветок: этот привычный мир окружал его с детства. Вот, правда, попалась странная аквилегия: свернутые в трубочки лепестки – розовые, а по краям вьется широкая и волнистая ярко-сиреневая бахрома. Видимо, бабушка вывела новый сорт.
Сад располагался на двух уровнях, и сейчас Торик был на нижнем. Дальше тропинка раздваивалась, левая вела к лесенке из замшелых каменных ступеней, а правая – мимо сиреней – в верхний сад, туда и направился Торик. Но где же гости?
* * *
– Молодой человек, ты не нас ищешь? – раздался из-за куста барбариса голос дяди Миши.
Тот поднялся на пригорок посреди сада и обозревал окрестности. Неизменная светло-серая форменная рубаха инженера-железнодорожника свободно облегала крупный горб. На плечо накинут ремешок фотоаппарата. Держался с достоинством, без суеты. Бабушка стояла рядом и разглядывала в небольшой бинокль что-то далекое за рекой.
– Здравствуйте!
– Ну здравствуй-здравствуй, – почти пропел дядя Миша и тут же вернулся к прежней теме. – Соня, так что ты говорила про георгины?
– Второй год вывожу новый сорт. Но пока получается не совсем так, как мне хотелось. Цветки должны быть с острыми лепестками, длинными и красно-оранжевыми, с переходом в более желтые оттенки. Если все-таки получится, назову сорт «Закат над Кедринкой».
– Романтично, – оценил дядя Миша. – Толя, мы с Соней видимся теперь редко. А ты возьми-ка мою технику да сними нас на память. Кадр я сейчас настрою. Прицелься и нажми вот сюда. Сможешь?
– Попробую, – смутился Торик. Фотографировать ему еще не приходилось.
Дядя Миша снимал не фотографии, а цветные слайды. Щелчок – и яркая картинка этой летней встречи сохранилась навсегда. На фоне пронзительно-рыжих гроздьев рябины стоят брат и сестра, обоим под семьдесят. Он держит в руках очки и испытующе глядит на Торика: справится ли? Рядом бабушка в коричневом сарафане и белой кофте рассеянно держит пушистый белоснежный георгин.
– А пойдемте, я вам клематис покажу! – вдруг оживилась бабушка и направилась к дому.
– В этом она вся, – усмехнулся дядя Миша.
Он осторожно забрал фотоаппарат, неспешно оглядел сад и зашагал следом за бабушкой. А Торик не торопился: у него тут осталось одно приятное дело.
На самом краешке верхнего сада стоял высоченный раздвоенный тополь. А рядом – Двудомик. Снаружи он выглядел как желтый деревянный куб с ребром в два метра. Одну из стен целиком занимало окно, а на противоположной стороне, как раз у тополей, примостилась дверь. Крыша плоская, так что получался настоящий жилой кубик для небольшой семьи. Отец сам спроектировал и построил его, когда появился маленький Торик.
Когда домик начали обживать, мама повесила тюль, поклеила на стены симпатичные мягко-зеленые обои и приколола у кровати Торика смешную открытку. Изнутри Двудомик напоминал плацкартное купе поезда: две полки-кровати, они же сиденья, одна поуже – для Торика, другая пошире – для родителей. У окна – широкий стол, за которым так удобно сидеть. А сверху, над кроватями – полки. Узкие, зато полные сокровищ.
По утрам Торик обычно вставал на свою «кровать» и оказывался лицом у нижней полки, куда папа и тетя Таня заботливо выкладывали подписку журналов «Наука и жизнь» за несколько последних лет, целую серию развивающих брошюр 1950-х годов и еще много всякой интересной всячины. Все эти сокровища Торик мог читать, перебирать и листать часами.
Недавно его увлекла идея флексагонов. Эти необычные штуки из бумаги могли сложить даже его неуклюжие руки. Всего-то надо было расчертить нужную фигуру на клетчатом листе, вырезать ленту, согнуть ее в нужных местах, перевернуть и в одной точке склеить. Флексагон похож на ленту Мебиуса, только он плоский. Сворачивая и разворачивая этот бумажный кулечек разными хитрыми способами, можно было открывать не две и даже не три стороны бумаги, а гораздо больше. В последнем номере «Науки и жизни» описали флексагон на сорок восемь поверхностей, и Торик решил обязательно такой себе сделать, но попозже.
Довольный, он забрал нужный журнал, спустился по ступеням из песчаника и направился к дому.
* * *
В доме царила радостная суета. Родственники и знакомые любили сюда приезжать, некоторые гостили по две-три недели. За долгую историю семьи Васильевых времена случались разные. Бывало, что Васильевы сами были вынуждены уезжать куда-то и жить у дальних и ближних родственников месяцы, а то и годы. Поэтому их радушие не было показным, они на самом деле радовались гостям и старались принять их как можно лучше.
Интеллигенция обустраивала свои дома иначе, чем крестьяне. В отличие от типичных деревенских домов пространство этого дома было поделено на несколько разных комнаток. Вы сначала входили на кухню, затем через нее – в столовую с большим столом, за который обычно усаживались гости. Оттуда можно было пройти в крохотную комнатку бабушки или такую же комнатку Андрея, тетиного сына. А можно обогнуть печку и пройти дальше, в так называемый зал, довольно просторную комнату с большим зеркалом и диванчиком, где спала тетя. Настоящих дверей тут не было, но в каждой комнатке имелись дверные проемы, занавешенные шторами. В шутку здесь их называли «входными шторами», чтобы не путать с оконными. Поскольку гости приезжали часто и надолго, к дому пристроили еще и большое летнее крыло, так что места хватало всем.
Застолье было по теперешним временам нетипичным. При том, что вокруг стола усаживалось человек десять, а то и больше, открывали одну бутылку вина, да и та часто оставалась недопитой. Но уж тогда совсем немного наливали и Торику, просто чтобы он знал вкус хороших напитков. Нехитрые блюда сменяли друг друга, но главным делом считались нескончаемые разговоры. Торик не очень вникал в их темы, но они были спокойными, степенными и интересными для всех участников.
Сам Торик по обыкновению пробрался в бабушкину комнату. Это место он называл «Зашкафье», и тут главным сокровищем выступал высокий, почти до потолка, шкаф, набитый книгами в два ряда. Каждый раз здесь находилось что-то новое: книги по искусству, цветоводству и минералогии, там фантастика, а тут – книги о путешествиях. В разговоры взрослых за столом он старался не вмешиваться, но вполуха прислушивался.
Возможно, именно эта привычка со временем привела к тому, что он и жизнь стал воспринимать точно так же: отстраненно, не как участник событий, а лишь как сторонний наблюдатель. Листая журнал, Торик подвинулся поближе ко входной шторе.
Тетя Катя, жена дяди Миши, рассказывала о жизни в Москве, об общих знакомых и родственниках. Дядя Миша иногда что-нибудь добавлял о выставках и премьерах. В паузе тетя Таня уточнила:
– Как там Нинмихална? К нам собирается?
– Может, на недельку выберется в сентябре.
– А как Марина, – поинтересовалась бабушка, – сдала экзамены?
Кажется, дядя Миша смутился:
– Марина-то у нее теперь… вторая.
На минуту все перестали жевать. Над столом пролетела муха и уселась на цветущий кактус.
– Как… вторая? – не поняла бабушка. – А первая куда же делась?
– Отучилась, прошла распределение и теперь в Томске. Плакала и благодарила, сказала, что за эти годы Нинмихална стала ей как родная.
– Конечно, – поддержала тетя Катя. – Где в Москве найдешь человека, который возьмет к себе жить чужого?
– Так откуда вторая-то? – не сдавалась бабушка.
– Марина когда уехала, – вновь вступила тетя Катя, – Нинмихалне так одиноко стало. Она опять пошла в тот институт. Там приемная комиссия, ну и… История повторяется. Все носятся ошалелые, а одна девушка сидит и плачет. Подошла, разговорила. Как узнала, что тоже Марина, не удержалась, к себе позвала.
– Я уж с ней говорил, – сказал дядя Миша с досадой. – Люди-то всякие бывают. Нинмихална одна, детей нет, муж умер… А она: «Ну и пусть. Живой человек в доме. Пока могу, буду помогать».
– Человек взрослый – сама решит, – подытожила тетя Таня. – Чай будете?
Смекнув, что приближается время сладкого, Торик неуклюже выполз из Зашкафья и сел за стол поближе к гостям. Лицо дяди Миши при этом на миг озарилось улыбкой, но затем он посерьезнел и степенно заявил:
– Толя, а ты знаешь, был тут один пеликан… Катя, где у нас…
Торик понял, что его ожидает очередной подвох. Дядя Миша знал тысячи вещей из самых разных областей культуры, науки и техники. Но при этом безумно любил мистификации. Он умел с серьезнейшим видом рассказывать полную чушь про слонов, живущих в метре под землей, или про ложку, внезапно стекшую внутрь стакана с горячим чаем (а это оказалось правдой – только ложка нужна специальная, из сплава Вуда). Он наслаждался замешательством собеседника, лишь в конце истории одаряя его доброй улыбкой.
Из сумки достали довольно крупную фигурку розового пеликана, и дядя Миша невозмутимо продолжил:
– Мы выяснили, что пеликаны питаются конфетами. Но иногда съедают не все. Посмотри внимательно: вдруг у него в клюве что-нибудь осталось?
Разумеется, конфета там была. А сколько их нашлось у пеликана в животе! Торик вроде и вырос из таких штучек, но ему было приятно. Дядя Миша думал о нем, когда собирался сюда. Детский розыгрыш… но с того раза пеликан, внезапно являвшийся среди обыденности жизни, стал для Торика символом доброго абсурда.
– Таня, а как там твой Андрей, служит? – начала новую тему тетя Катя.
– Он сейчас в ГДР, еще больше года ему осталось.
Удивленный новым поворотом мысли, Торик поднял взгляд. Спокойный, привычный, ничего не значащий разговор. Они просто разговаривают – учительница, врач, профессор и актриса, а школьник их слушает.
Неспешной беседой они словно подпитывали друг друга. Кругом мягко плескалась синергия, хотя Торик пока не знал, что это называется именно так. Ощущение было очень знакомым, теплым и приятным. Он улыбнулся.
Словно мысленно отвечая ему, оживился дядя Миша. В глазах его сверкнул озорной огонек.
– Сонь, а помнишь, как тебе воздыхатель стихи написал? Где-то году в двадцатом, что ли? Про шумливые берега, помнишь?
– Да ну тебя, скажешь тоже! – смутилась бабушка. – Какой там воздыхатель! Это некий Аверьянов в 1922-м в газету написал.
– Как там начиналось? Не припомню.
Бабушка откинулась на стуле, прикрыла глаза и начала:
Я люблю вас, потемневшие бугры,
Тонким кружевом просевшие снега,
Что чернеют там, на взлобочке горы,
И шумливой Пральи берега…
– Пральи? – встрепенулся Торик. – Так это про наши места?
– Про наши, не сомневайся, – уверил дядя Миша, – потому что дальше четверостишие я как раз помню.
Я люблю смотреть с высокой Гневни в даль,
Где леса чернеют полосой,
Где реки колышется эмаль
И высоко реет коршун надо мной.
– Там еще что-то про церковь и про город.
– Я плохо помню, – пожаловалась бабушка. – Только город… Нет. Ах, вот же:
Ну а город? Ах, красив, красив,
Он весной – как талые снега…
Тут подключился и дядя Миша, и теперь они нараспев читали вместе:
…Как законченный и радостный мотив,
Как шумливой Пральи берега!
Все замолчали. Эхо слов, написанных полвека назад, таяло в воздухе.
Резко зазвонил телефон.
– Алло, – сказала тетя Таня совсем другим – деловым и серьезным – тоном.
Телефон здесь был один на все Подгорье. Линию специально протянули вне очереди в дом единственного в округе сельского врача.
– Хорошо, – согласилась тетя, – минут через тридцать буду у вас. Нет, раньше никак не получится. Укройте простыней, но не перекладывайте. И пока не давайте пить. Ждите.
– Мне нужно до Козыревых дойти, – сообщила она гостям. – Приберетесь?
– Конечно, Тань, не волнуйся, я все сделаю, – заверила тетя Катя.
Торик помог перетаскать посуду на кухню. А дядя Миша все сидел, глубоко задумавшись, и смотрел в одну точку – на кольцо на полу.
Взявшись за это кольцо, можно было открыть люк, ведущий в подвал. Тот самый злосчастный подвал, куда упал семилетний Миша. Крики, суета, кровь, срочно телега, врачи, больница, долгая-долгая неизвестность и лишь робкая надежда на чудо. И чудо случилось. Он выжил и даже не потерял способности двигаться, но позвоночник пострадал необратимо. Всего один промах так драматично изменил всю его жизнь, сделав горбуном.
– Я… наверное, пойду, – неуверенно сказал Торик в пространство.
Бабушка с тетей Катей уже нагрели тазик воды и теперь вместе мыли посуду.
Сунув под мышку журнал с флексагонами и поудобней перехватив пеликана, нафаршированного конфетами, Торик вышел из «Гнезда» на улицу. Мысли в голове носились как бешеные. А сам Торик возвращался к бабушке Саше, в домик над шумливой Пральей.
Лето на этом не закончилось. От него еще остался приличный кусок. Целых три недели!
Глава 5. Ихтиандр
Ноябрь 1974 года, Город, ул. Перелетная, 9 лет
Хорошо, когда дома есть телерадиола. В большом рыжем корпусе из лакированного дерева уместились и телевизор, и радиоприемник. Мало того, сверху еще открывалась крышка, а под ней пристроился проигрыватель. Колонки не нужны – звук шел из самого ящика.
Торик обожал слушать пластинки! Не обязательно музыкальные. Родители припасли для него множество сказок и занимательных историй. Сейчас он дослушивал четвертую сторону «Искателей необычайных автографов» о путешествии к Фибоначчи Пизанскому. Недавно папа сделал наушники, и теперь слушать стало еще удобней: и сам все слышишь, и никому не мешаешь. «Главное – не мешать».
Путешественники как раз вернулись со средневекового карнавала и угодили в яму с кроликами, количество которых соответствовало числам Фибоначчи, когда Торик почувствовал: дома что-то не так. Обстановка, похоже, накалялась, и дело было не в соседях. Он тихонько сдвинул наушники назад и прислушался.