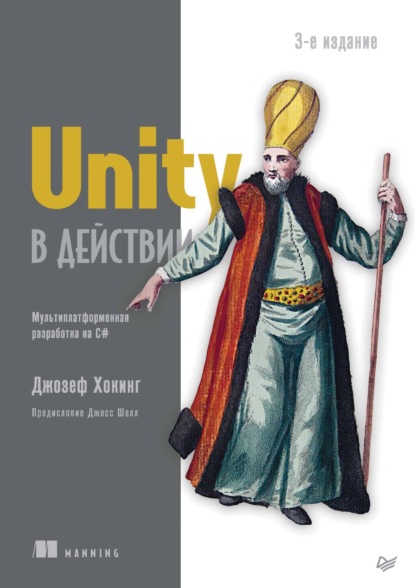- -
- 100%
- +

© Константин Александрович Уткин, 2025
ISBN 978-5-0068-7210-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Апрельские сумерки, пахнущие талой водой и горькой корой оживающих деревьев, наполняли сознание какой-то неподходящей возрасту печалью. От освещенного вдалеке пространства манежа несло конским навозом, виднелись легко рысящие лошади и пружинящие на их спинах стройные наездницы.
Фонари, которые Пусев лично включил, наливались силой и освещали пространство белизной.
А над пространством желтая тлеющая полоса была перечеркнута сеткой ветвей молчаливых ждущих берез, еще не потемневшее небо было прозрачно-синим – и талые лужи на асфальте отражали эту расплесканную голубизну.
Вдали, под прозрачной чернотой голых деревьев, появилась мешковатая фигура с пакетом в руке. Фигура отошла в сторону, пропуская выезжающую машину клиента, Пусев скинул крючок с ворот, распахнул, дурашливо приложил два пальца к козырьку, клиент из салона ответил взмахом ладони.
– Ужин кушай.
Принесший паек киргиз был немногословен – сунул вялую шершавую руку для пожатия, передал пакет и пошаркал обратно.
Смешно, но Пусев ощутил странный прилив энергии – жизнь шла, причем шла именно так, как ему и хотелось.
В его распоряжении был – домик, обогреватель, диван, телевизор и трехразовое питание. Аллея, окруженная с одной стороны березами, с другой – боярышником, по которой он любил прогуливаться перед сном, несмотря на то что после дня ноги обычно гудели, как пасхальные колокола.
Был поток людей, шедших на занятие по верховой езде, были помогающие девицы, фанатично обожающие лошадей создания – которые бегали курить под навес неподалеку и стреляли в него любопытными взглядами.
Были и машины тренеров – собственно, именно им и нужно было открывать да закрывать ворота. Именно за этот высокоинтеллектуальный труд хозяин спортивного комплекса и платил – не густо, но вполне хватало на жизнь.
Главное, что нравилось Пусеву в его нынешней должности – это период покоя с девяти до одиннадцати ночи. Когда поток проката становился все меньше а потом и вовсе иссякал, когда ежевечерний обход сопровождался вспыхивающими за ним фонарями, когда кричащие цвета телевизора вырубались за ненадобностью – наступали священные часы тишины и одиночества.
Они были коротки, но насыщенны – практически каждую смену Пусев писал по стиху. После чего застилал видавший виды диван своим бельем и выключался, как свет до шести утра.
Всего за время работы накопилось довольно много приличных стихов – которые он по привычке выкладывал на ПоэПис, совершенно не заботясь ни количеством читателей, ни тем, есть ли они вообще. Скорее его удивляло, если вдруг оказывалось, что три-четыре человека нашли его страницу, давно погребенную под творческим мусором активных, общительных и энергичных графоманов – нашли и прочитали несколько текстов.
Привлекало его в работе еще одно важное обстоятельство – находясь на городской окраине, рядом со старинными Сокольниками, конный клуб существовал как бы в ином измерении. Может, лесной барьер сглаживал буйство городских страстей, может, сама обстановка тому благоприятствовала, но тесная сторожка существовала отдельно от остального мира.
Пусев, несколько лет проведя в тисках интернет- зависимости (впрочем, иногда бурная виртуальная жизнь выплескивалась в мир неожиданными встречами и романами), в один прекрасный вечер, глядя, как за окном густеют краски, понял тщетность всей той несуществующей суеты.
А самое главное – творчество, издревле бывшее уделом одиночек – стало ширпотребом, дешевкой на один день, потакающей самым простеньким и расхожим вкусам.
Мастерство попытались поставить на поток и оно исчезло. Фильмы прекратились в сериалы. Книги – в серии. Голоса перестали звучать без компьютерной обработки.
И толпы пользователей, жаждущие свежей информации, получали ее – самую свежую, только-только чирикавшую в масле – чтобы забыть уже через час.
Пусев понимал, что бурлящий поток литературной, около литературной и псевдо литературной жизни вышвыривает его на берег – и не очень печалился по этому поводу. Ему не было места в толпе, ему было душно в ней и неуютно. Он предпочитал стоять в сторонке и наблюдать с кривой усмешкой, как люди носились от подножия одного кумира к стопам другого, почти сразу забывая про первого. И как росли, матерели, набирали силу и вес эти самые кумиры – чтобы через непродолжительное время рассыпаться никчемным прахом.
Но на их место приходили другие – и всем хватало внимания. Не сотвори себе кумира – предупреждала древняя книга, но кумирам люди готовы платить – если не деньгами, то временем и вниманием, и что стоят замшелые истины против живых монет?
Поэтому Пусев и выбрал сторожку привратника, в самом прямом смысле открывая и закрывая ворота перед преуспевшими в жизни победителями.
В том, что называлось литературным процессом, он не участвовал и участвовать не собирался – он прекрасно знал стоимость, кем направляется и куда движется и не обманывался на этот счет.
Графоманские орды, взращенные ПоэПисом, методично шли на штурм столичных центров культуры – толстых журналов и сохранившихся газет, счастливцы же, в прямом смысле делающие литературу, не замечали бедолаг, получая в спину дробные залпы ненависти.
Графоманы же создавали союзы, кооперировались в какие-то группы, щедро ставили лайки, сыпали комплиментами, изощрялись в изобретательности, доказывая никчемность академических изданий и даже их вред – в общем, шла обыкновенная, будничная жизнь.
Она была отражена в виртуале терабайтами переписки, бесконечными лентами рифмованных столбиков, искрящимися картинками и прочими проявлениями современного лубка, поставившего себе на службу все технические возможности.
Но интернет – наркотик, сильнее любых опиатов. Вызывающий зависимость, от которой нужно лечиться в специализированных стационарах, с полной изоляцией, спортом, промывкой замусоренных мозгов и ударными дозами витаминов в седалище.
У Пусева же не было возможности прибегнуть к таким радикальным мерам – и поэтому он регулярно заглядывал во все социальные сети, где был зарегистрирован, и наблюдал.
На ужин из местной столовой прислали кус жареной трески, пюре и горсть квашеной капусты.
Всыпав в потемневшую от многочисленных заварок кружку три ложки чая – любил он творческие просторы, открываемые этим древним напитком – Пусев отхлебнул и полез в одну из социальных сетей, посмотреть, что творится в литературном мире. Как ни странно, но он знал литературный мир, и мир тоже знал про него – несмотря на взаимную неприязнь и всегдашнее отдаление.
А в интернете шла битва не на жизнь, а насмерть. Десяток настоящих пользователей и два десятка купленных, скучно отрабатывающих деньги – этих можно было узнать по набору шаблонных фраз – пытались на куски разорвать Диму Пранина, старого знакомого по ПоэПису. Димы огрызался, демонстрируя невероятную мощь обсценной лексики, свое умение и виртуозность в этом вопросе.
Он был столь убедителен, защищая себя и свои взгляды, что какая-то совершенно незнакомая скучающая дама, добавляющая в жизнь перцу посредством безвинных интернетных склок, не выдержала и возмутилась.
– Дмитрий – написала он, вся кипя от гнева – ну как же вы можете так выражаться? Вы же работаете в Газете Литераторов!!! Как вам не стыдно!!!
На что Дима, не снижая матерной прыти, ответил – что клал на эту газету с пробором, что имел ее, ее маму, папу и главного редактора, что он оттрубил свои десять каторжных лет и посылает ее на катере к такой-то матери…
И удерживает его от увольнения только одно – не могут найти дурака, который наденет на себя кандалы и возьмет его весло на этой галере.
Пусев поскреб лысину и ухмыльнулся. Да, умеет Димы быть убедительным, если захочет. И вздохнул – был бы он сам помоложе, был бы у него стаж, был бы у него опыт а главное – желание, устроился бы он в эту легендарную Газету Литераторов. Собственно, сорок лет назад именно с нее и начинался его путь. Но шансов – один на миллион, на это место наверняка рвутся десятки зубастых малолеток с толстыми папками портфолио.
Шансов – один на три миллиона. Пусев вздохнул и вошел в личную почту.
Судьба способна на самые невероятные кульбиты – и когда через месяц радующиеся друзья и знакомые спрашивали, как он умудрился попасть в эту самую старую, самую легендарную, самую писательскую и самую поэтическую газету, Пусев честно отвечал – из конюшни. Хорошее было место. Спокойное. Торговал себе навозом, обеспечивал дачников экологически чистым удобрением, а теперь вот приходиться от вас отбиваться.
И друзья смеялись, и не верили друзья в такую дурацкую простоту. Потому что всему литературному миру было известно, что в такие издания, как Газета, вход с улицы заказан, что нельзя просто так прийти и занять кормное место в отделе, что нужно долго и унизительно ползти к самой возможности там оказаться. И когда ты к этой возможности подползешь, нет никакой гарантии, что фортуна повернется к тебе лицом, а не другим известным пухлым местом.
Друзья знали, что говорили.
Судьба пишущего человека развивается очень извилисто и прихотливо, и никогда не известно, какое неудачно сказанное слово отбросит тебя назад, в глубины безвестности, за сотни километров от кормушек, гонораров, рецензий и книг. Невозможно угадать, кто из друзей, вчера поливающих твое плечо пьяными слезами, сегодня поливает тебя грязью на плече другого твоего друга.
Поэтому и ухмылялись скептически и недоверчиво товарищи, втайне досадуя на трезвость Пусева – пьяного они бы в момент раскрутили на правду.
Ну а Пусев, по своему обыкновению, не врал. Невозможно даже представить, сколько вреда нанесла эта его особенность – неумение соврать там, где нужно, там, кому нужно и тогда, когда нужно. Проклятая правда, как песок в глазах, вызывает только слезы. Но тем не менее врать Пусев так и не научился, справедливо полагая, что правду говорить легко и приятно.
Невероятность ситуации и заключалась именно в том, что от мешков с навозом, от должности, которая стояла на одном уровне с конюхами и разнорабочими, писатель-неудачник попал в самую гущу литературной жизни.
Тимофей Альбертович Бархатов, непосредственный начальник, так и сказал, положив мягкую руку на плечо Пусеву и задержав ее чуть больше положенного – Теперь ты, Пусев, на самой что ни на есть передовой литературной жизни. Вся литератутная жизнь идет через нашу газету. Все, что происходит вне нашей газеты – это не литературная жизнь. Нам надо следить за чистотой этой жизни.
Пусев нервно глотал горячий кофе, обжигался но не подавал вида – Тимофей же к кофе, купленным для него новым подчиненным, даже не притронулся. Он говорил, причем говорил так, что было непонятно, обращается он к Пусеву, колонам нижнего буфета Центрального Дома Литераторов, буфетчице или замшелому писателю за соседним столом.
– А работа на передовой литературного фронта отличается некоторыми особенностями. Надо четко понимать, кто есть наши, а кто есть не наши.
– Пусев кивал. Он понимал, у него было хороший опыт ПоэПиса – талантливые в основном наши, бездари, как правило, чужды.
– Да, сразу могу сказать, что наш главный редактор – человек, конечно, гениальный, но весьма своеобразный. Если он тебя не замечает – это самая лучшая похвала. Если он тебя ругает – то это нормальный рабочий процесс. Если он тебя ругает каждый день и очень сильно – это значит он тобой слегка недоволен. Если он на тебя орет, вопит, кидается кружками и топает ногами – значит, дело плохо.
– А за что он на меня может… вот это все? – Пусев напрягся. Обычно те, кто пытался на него орать, топать и кидаться кружками, получали длительный – как правило, неоплачиваемый отпуск в больнице.
Бархатов вздохнул.
– За все. То есть, ни за что. Если будут какие-то проблемы по работе, то решать их буду я. А если на тебя будет орать Топляков, это значит что ты попал в ненужное время в ненужное место и к тому же под горячую руку. Ты должен понять, у нас в редакции коллектив маленький, но злобный. И твоя задача – не подвести свой отдел. Другие отделы можно подвести, но свой – никогда. От этого зависит твое благополучие. Сам погибай, как говориться, но начальника выручай.
И нужно быть очень внимательным к знакомствам. В тебе будут заинтересованы самые разные люди – в основном, конечно, графоманы, но и писатели изредка тоже. Все будут от тебя хотеть публикаций. Конечно, публикации ты им сможешь давать. С моего разрешения. Но не дай Бог ты опубликуешь какого-нибудь врага Топлякова. Сам стаешь врагом – навсегда. И если тем, кого ты опубликовал, сам Топляков еще может помириться, то с тобой он уже не помириться никогда ни при каких обстоятельствах.
– Как все сложно – пригорюнился Пусев. А Бархатов опять положил руку на плечо и опять задержал ее чуть больше положенного.
– Да, все сложно. Но это для умного человека прекрасный трамплин, позволяющий сделать отличную карьеру. Нужно только знать, как себя вести. Ну, в этом я тебе помогу.
Теперь приезжай в редакцию в среду, Топляков даст тебе книги на рецензии. Напишешь что-нибудь. Это неважно, я тебя читал сам и знаю, как ты умеешь, но лучше написать.
Пусев сидел, молчал, кивал, как китайский болванчик. Он примерно представлял себе всю сложность мира, куда ему придется вступить, и понимал, что долго ему там не прожить. Но и отказываться тоже не стоит. Второй раз такого шанса не будет. А сложности – ну что ж, сложности были, есть и будут везде.
Бархатов меж тем встал, сунул для прощания вялые, мягкие и нежные пальцы, глядя куда-то вдаль над головой Пусева, потрепал его по плечу очередной раз и поплыл на выход.
Широкая спина в сером пиджаке загородила дверной проем и исчезла. Пусев уставился на кружку кофе. Триста рублей. Выпить его, что ли?
Буфетчица придавила прилавок солидным бюстом и равнодушно отвернулась к бесконечно бубнящему телевизору – эта записная нищета сейчас допьет вторую чашку кофе исключительно из жадности и будет сидеть два часа, изображая глубокую работу мысли. Такие как он всегда так – сначала изображают глубокую работу души, а потом ходят побираются да подъедаются у более удачливых коллег.
Пусев меж тем действительно не собирался уходить из легендарного подвальчика так рано – во первых, он испытывал ностальгию по пьяной молодости. Во-вторых, остывший кофе действительно нужно было допить. В третьих, у него образовалось окно, пустые часы, которые нужно было чем-нибудь занять. Да и поразмыслить над перспективами тоже стоило – причем по горячим следам.
Дело в том, что с Топляковым, самым известным и самым читаемым при жизни современным классиком, он был заочно знаком несколько десятилетий, и не испытывал к нему никаких симпатий. Топляков как-то всегда умудрялся опережать его на полголовы. Это раньше, когда Пусев был юнцом с марксистской гривой и прозрачными усами и всерьез подумывал о карьере писателя, было опережение всего на пол-головы. Потому Топляков ушел в отрыв на полкорпуса, потом на корпус, потом Пусеву осталось только чихать в пыли, поднятым своим коллегой.
Топляков обладал одним замечательным даром – кроме весьма среднего, но весьма крепкого дара литературного – умением быть при властях. Власти дали ему путевку в жизнь – непосредственно после комсомольской путевки, власти кормили его, поили и обогревали. Власти снисходительно трепали по пушку упитанной щеки, когда он в рамках дозволенного безобидно трепал штаны той же самой власти. Когда власть менялась – Топляков с искренней радостью обрушивался на старую, ушедшую власть – тем более что власть менялась, а люди оставались те же.
Когда Пусев подыхал от недосыпа и обморожений в карауле – Топляков тиснул бодрую повестушку об ужасах советской армии. Самцы, как звали в части Пусева молодых, конечно, эту повестушку не читали, подыхая от бессонницы и круглосуточных нарядов, обмораживаясь, зарабатывая язвы желудка и психические расстройства. Но если бы почитали – долго бы смеялись и крутили пальцем у виска. Эту кучерявую мордашку прислать бы к нам в роту. Вешайся, морда!
Вешайся!!! Но Топляков вешаться не хотел и умело претворил свое желание в жизнь. Повестушка наделала шума – при всей своей безобидной лакированности. Потом он отыгрался на вскормившем его грудью комсомоле и заслужил славу непримиримого борца.
Потом написал свое единственное стоящее произведение из всех пухлых томов, штампуемых им на протяжении всей жизни – «Бычок в простокваше».
К тому времени от Союза и от комсомола с его изобильной материнской титькой не осталось и следа, люди, растерявшиеся от разгульной вседозволенности советские люди бежали или мерли, как мухи, от ядовитого пойла, наркотиков, пуль.
Или просто вешались – как в воду смотрели дембеля – но Топляков, вопреки своей фамилии, оказался непотопляемым.
В общем, прочитал Пусев «Бычка в простокваше». Посмеялся – вещь местами действительно смешная. Дал Топлякову свою оценку – самый пошлый писатель современности. Отложил книжку в сторону и забыл.
Ему тоже, видите ли, надо было выживать, ловить свое счастье в мутных водах и стараться не утонуть. Какое ему дело до сального писателя, лавирующего в лабиринтах литературного мира, хапающего куски то здесь, то там и продолжающего неудержимо строчить?
Книги Топлякова стояли во всех книжных магазинах, кричали названиями и обложками, покупались и вроде бы даже читались – осторожный борец с властью сумел внедриться в сознание читающей постсоветской публики и занял там подобающее место.
Пусев им не интересовался, как я уже сказал, и не завидовал – каждому свое. Любят люди пошляков – но это не значит, что пошляками надо становиться всем. Любят сальности – но это не значит, что в каждом тексте нужно лезть липкими руками под исподнее.
*
Этот особнячок он уже видел – в одном из легендарных мест Москвы, где каждый метр круто идущего вверх подъема теряется в темноте веков, возле стены легендарного сада знаменитого дореволюционного купца. Стиснутые с двух сторон стенами ступени, на которых двум людям можно было разойтись только с трудом, вывели во дворик.
Каким бродяжьим ветром и когда заносило сюда Пусева, он не помнил – но зато точно помнил и тускло поблескивающую латунную вывеску, и дуб в два обхвата, раскинувший свои ветви практически над крышей, и какую-то приземистую стену слева с нагой кирпичной кладкой.
Пусев украдкой глянул по сторонам, мелко перекрестился и дернул дверь на себя.
Слева, над мониторо, появились красные от недосыпа глаза охранника и взъерошенный пшеничный чуб.
– Вы куда? – лаконично поинтересовался он. Пусев не удивился – его затрапезный вид не вызывал у почтенных секьюрити должного уважения.
– К Бархатову.
– Он вас ждет? —уточннл охранник.
– Да – не стал спорить Пусев.
Охранник, который прекрасно знал, что Бархатова два дня не будет в редакции, пожал плечами и углубился в сетевую игру. Лишь буркнул, не отрываясь больше от экрана.
– Прямо-налево-налево-направо-налево.
Пусев уважительно пошевелил бровями – он сам никогда не умел так лаконично объяснять дорогу.
Оказалось, что охранник совершенно прав, после двух поворотов налево нужно было – чтобы не подниматься по лестнице – шагнуть вправо. И за гостеприимно открытой дверью показалась широкая спина, согнутая над столом Пранова.
– Вы к кому? – спросил он, не оборачиваясь.
– К тебе.
– А. Отлично. Вот тебе место, вот тебе комп – нет, комп отдашь Кате, себе возьми любой из вот этих трех – и прими мои соболезнования. Да, это Катя. Разина. Моя жена, между прочим. Катя. Это Пусев. Вася. Вася Пусев. С сегодняшнего дня твой коллега.
Катя Разина выглянула из-за горы книг – по другому бы просто не получилось. Перестрелка быстрыми взглядами, пара ни к чему не обязывающих дежурных фраз – и Катя нырнула опять в свои бумажные терриконы. Пусев даже не понял – ни как она выглядит, ни о чем они говорили – раздавленный невероятностью происходящего. Пранин торопливо собирался, с грохотом выдвигая и задвигая ящики, кидая в сумку какой-то мелкий, но очевидно дорогой сердцу мусор.
– Ты что, уже все?
– Уже все – сквозь зубы цедил Пранин – иди сам на эту каторгу, бренчи цепями, ноги моей здесь больше не будет…
– То есть вот совсем? Погоди – я серьезно уже работаю на твоем месте?
– Да, ты совершенно серьезно работаешь на моем месте, будь оно трижды неладно. Поздравляю.
Пранин вдруг выпрямился и мясистой влажной ладонью сжал руку Пусеву.
– Пошли покурим, я тебе такое рассказать хочу…
И когда, пройдя мимо красноглазого охранника, они вышли на воздух, Пранин протянул Пусеву сигареты и оживленно сказал.
– Слушай… я хочу сходить на медведя.
– С собакой? – уточнил Пусев.
Пранин набрал в грудь воздуха, как перед прыжком в прорубь, и бухнул.
– С рогатиной!
Пусев не сильно удивился. Но все-таки уточнил.
– Да, если с рогатиной – собаки только мешать будут. Начнут за гачи хватать, мишка на задние лапы не встанет. А не встанет – не сможешь в него рогатину воткнуть.
– Я не хочу, чтобы он на дыбы вставал. Я его рогатиной просто проткну.
– Не проткнешь – уверенно сказал Пусев. – Тебе просто не позволят пойти на медведя с рогатиной. Либо нужно уезжать в такие дали, где тебя не найдет никто, кроме медведя.
– Да – сокрушенно согласился Пранин – это точно. Я уже десять охотхозяйств обзвонил – отказываются.
– Позвони Тарковскому. Вот он тебе может такую охоту устроить. Все-таки не пропитый егерь, а промысловик. Ты мне лучше про газету расскажи. Про особенности, так сказать.
– Может быть. – задумался Пранин. Потом как спохватится – А что про газету рассказывать? Ну что про нее рассказывать? Лучше про медведя.
Дверь скрипнула, и на свет вышел коренастый мужчина с солидной пепельной гривой, солидными пепельными усами, с солидными мешками под пепельными бровями. Прикурил, выпустил клуб дыма и уставился в заставленную домами даль – но Пусев видел, как шевелится под прической, ловя волну, ухо.
Пранин повел глазами в сторону мужика.
– Да, Тарковский – это хорошая мысль. Но так далеко меня Катя не отпустит.
– Можно подумать она тебя ближе отпустит… если ты только обманешь ее. Скажешь, что поедешь на зайца – или на кабана в крайнем случае, а сам шкуру убитого медведя притащишь. Главное, чтобы после этого она тебя самого бы не завалила.
Ухо солидного усатого мужчины, не найдя стоящей информации, замерло в неподвижности. И все замолчали, задумчиво дымя.
*
Казалось, что Пранин, действительно, ни секунды лишней не хоте оставаться в редакции – он даже не попрощался со своей женой, а сразу рванул в сторону метро.
Но Пусев задержался, ему предстояло обустраивать рабочее место – а это было непросто.
Комната отдела «Литература» практически ничем не отличалась от других виденным Пусевым подобных отделов. На столах громоздились книги, готовые обрушиться от неловкого движения и погрести под собой не только старые компьютеры, но и сидящих за столами. За спинками стульев, как правило, ютились чайные столики с разнообразными чашками. В посуде всегда что-то было – либо заплесневелая заварка, либо липкий осадок высохшего кофе, либо намертво прилипший пакетик.
И, конечно же – каменные пряники, сушки, высохшие до бумажной хрупкости, пустые пачки из-под сахара, ложки с масляными следами чего-то похожего на халву, конфетные бумажки и прочие спутники напряженного интеллектуального труда.
Предстояло выбрать стол. Рабочее место Пранина Пусев отмел сразу – слева сидела Катя, за спиной оказывалась всегда распахнутая дверь – и любой входящий видел гостеприимный экран работающего компьютера. Даже через плечо заглядывать не было нужды – смотри, читай, наслаждайся.
– Ты место выбираешь? – проницательно заметила Катя. – Ну вот либо сюда садись, либо на место Дукимовой. Вон там, за шкафом, у окна.
– А вот этот? – спросил Пусев, показывая на четвертый стол в комнате. На нем было рекордное количество книг – даже на стуле, даже под клавиатурой лежали тома и томики.
Катя замотала головой – она вообще была очень энергичная особа.
– Нет, это занимать не нужно. Мигран Сергеевич бывает редко, но все-таки иногда бывает. Это его стол.
Пусев не стал спорить. При таком раскладе выбор стал очевидным – второй стол у окна. Он тоже был захламлен, но разнообразными конвертами. Горы почтовых отправлений подступали к краям стола, лежали на коробе системного блока, рыхлыми пластами вываливались из незакрытых ящиков, стекали с подоконника, с бумажным хрустом скользили под ногами.