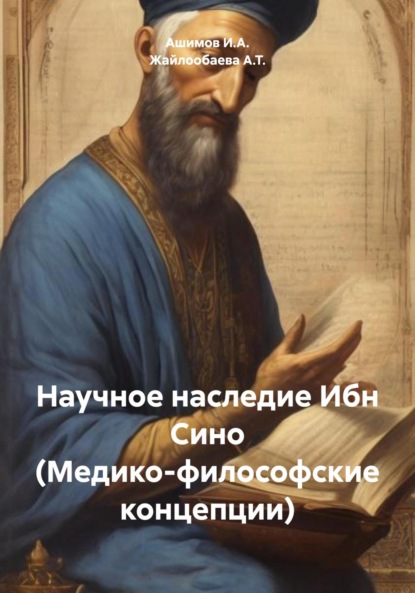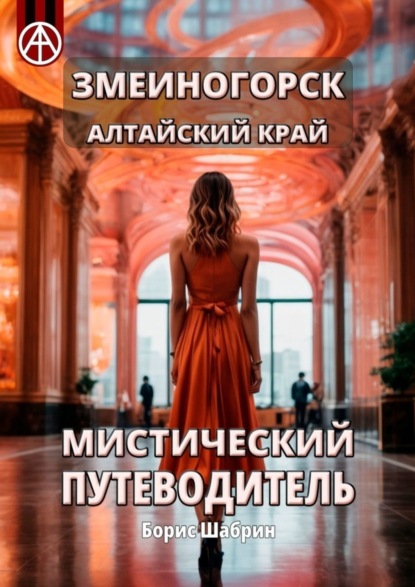- -
- 100%
- +
И работа закипела. Прибежала бабушка, засуетился Санька, двигая табуреты, стало тепло и весело. И только снулые, обвисшие плечи Машки портили радостную картину, впрочем, она быстро ушла.
…
Когда Дарюшка, закопавшись в огороде, да еще задержавшись у Муськи, вернулась в дом, все было готово, тетушки рядком сидели на лавке, трещали и ели пироги. Шурка подскочила к подруге, тыркнула ее острым кулачком в бок, зашептала.
– Там девки Машку обрядили, вообще загляденье. Кто такой наряд-то купил, кузнец что ли? В жизни у нас так невест не одевали. Королевна!
У Дарьюшки аж нос зачесался от любопытства, она пробежала по коридорчику в их с Машкой спальню и…столкнулась с папкой.
Петр стоял у дверей в комнату, держал в одной руке кепку, а в другой руку крошечной женщины. Гостья была сама похожа на девчонку – юная, худенькая, некрасивая. У нее дрожали губы, наверное, от страха, но голову она держала высоко, гордо.
– Деточка, здравствуй… Вишь, папка твой непутевый явился. Не мог дочку замуж не спровадить, хоть одним глазком гляну. Мать где?
Дарьюшка вдруг почувствовала, что она совсем не рада папке. Вот впервые в жизни не рада. Хоть бы он скрылся куда, пришел не вовремя, Машке и так тяжело. Пусть бы потом явился, после.
– Мамы нет. А ты чего пришел? Некогда нам…
Хотела оттолкнуть было, но от папки так пахло – табаком, дегтем, одеколоном его духовистым, что у Дарьюшки слезами застлало глаза, и она вдруг прижалась к отцу, отчаянно и жалко. Женщина выдернула свою руку, развернулась на каблучках старых сапожек и выскочила из коридора, как будто ее ветром сдуло. Петр гладил Дарьюшку по голове, шептал со слезой.
– Ничего, ничего, детонька. Папка теперь с тетей Ксеней неподалеку жить будет, в соседней деревне, хочешь, тебя к себе заберет. Она добрая, хорошая, не обидит. Не плачь, маленькая, все обойдется…
Потом аккуратно отодвинул дочку, наклонился, поцеловал ее в темечко, сунул в руку сверток.
– Это тебе денежка, спрячь, пригодится. И Машке я дал на приданое. хорошее купит. А теперича пойду я, мамка придет, кричать будет, нехорошо…
И исчез, вроде его и не было. И лишь, когда Даша зашла в комнату к сестре, то увидела, как отец с этой маленькой, как ребенок Ксенией быстро шли по улице, бегом бежали, и папка озирался по сторонам, вроде украл чего…
…
Машка стояла у стола в окружении своих подружек, и красивее ее точно не было в мире. Она распрямилась, гордо держала голову, толстая, красиво заплетенная коса лежала на высокой груди, плотно обтянутой белоснежной и сияющей тканью платья, а тончайшая, как дымка фата спускалась до самого пола. На ней не было венка, который всегда напяливали на невест у них в селе, а витая золотистая цепочка, в нескольких местах украшенная мелкими веточками ландышей перехватывала высокий, гладкий белоснежный лоб. Дарьюшке даже показалось, что у нее лицо изменилось, оно потеряло свое горькое выражение, стало спокойным и горделивым. Даша подошла к сестре, тронуле ее за руку, шепнула.
– Какая ты, Маш…Царевна…
Машка улыбнулась кончиками пухлых губ, опустила ресницы, отняла у сестры руку и пошла вперед, как будто поплыла. И когда подружки, быстренько выскочив вперед, загородили ее спинами, затароторив про денежки за невесту, она с силой разорвала их строй, вышла к белому от волнения кузнецу и подала ему руку.
…
Анастасия заявилась уже после венчания, пьяная, расхристанная и злая. Молча глянув на молодых, налила себе полный стакан мутной самогонки, подняла его на вытянутой руке, крикнула.
– Мир молодым! Забери ты уж от меня одну гирю. Повисли они у меня на ногах, не скинуть. Ишь, папина дочка! Пялится зверем. Горько!!
И, залпом выпив весь стакан до дна, повалилась прямо поперек стола, угодив рукавом нечистого платья прямо в холодец.
…
– Я, Дашк, поняла, что дура была. Мне бабка рассказала, что за мамка у нас, так и слава Богу, что я к Тихону перебралась. И знаешь?
Машка отложила уже сложенный узел со своими манатками, оглянулась на дверь, видно ожидая мужа, наклонилась к самому уху Дарьюшки, шепнула.
– Он смешной… Стыдливый такой, ласковый. Приятный. Колька другим был, нахальным, злым даже. И он…
Сестра снова оглянулась на дверь, прошипела еще тише
– Он ни в чем меня не оговорил, что я это… не девка…А ведь понял, видела, что понял…
Глава 16. Пожар
Зима катилась уже под уклон, половина февраля миновала. Тени уже стали короче, плотнее, да и цвет у них появился особый какой-то, то ли синий, то ли розовый, но яркий, красивый. Дарьюшка очень любила это время, еще не весна, но уже она рядом, палит ярким солнышком в полдень, зайдешь за сарай, где ветра нет, в одном платье стоять можно. И сосульки такие длинные, с крыши до земли прямо, с утра пойдешь Муське сенца кинуть, возьмешь палочку тонкую и ведешь по этим сосулькам – звон стоит, музыка. Все от предчувствия весны одурели, девки по вечерам гуляли с парнями, пели так, что воробьи сонные в ответ чирикали, тоже весну чувствовали. А тут налетели свиристели, в час обобрали еще краснеющие ягоды калины, облепиху и ту объели, ну, значит точно весна не за горами.
Как-то раз бежала Даша по тропинке вдоль плетня, уж темнеть начинало, глянь – торчит голова чья-то за сугробами, да знакомая такая, аж в сердце шерохнуло. Дарьюшка хотела было пробежать мимо, но Колька высунул длинную, как грабля руку из-за плетня, поймал ее за рукав, свистнул
– Стой, дура! Несешься, как черт. Дело есть!
Дарьюшка остановилась, сделала шаг назад, зыркунула.
– Чего надо-то? Спешу я.
Колька что-то буркнул в усы, потом протянул Даше горсть подушечек, шепнул.
– Выдь в калитку. Скажу чего…
Даша подумала, но сердечко трепетало чудно, не давало ей пробежать дальше. И она толкнула калитку, вышла.
– Ну?
Колька присвистнул, покрутил ее здоровенными лапами, улыбнулся.
– Да ты выправляешься, Дашка. Глядишь, краше Машки станешь. Вот вырастешь – женюсь на тебе. Хошь?
Дарьюшка с силой толкнула охальника в грудь, но он ухватил ее за локоть, удержал.
– Тут у меня писулька есть. Для сеструхи твоей. Отдашь? А я тебе печений принесу, у меня батька привез таких…С шоколадой…
Дашка снова вырвала руку, прыганула козой прочь, залетела в калитку и плотно задвинула щеколду.
– Иди вон, Колька. Ничего я не передам, еще не хватало. Машка дитенка ждет, ей твои писульки только печку топить. Выдумал…
Колька постоял, потом ухватился за плетень, хотел перемахнуть, но передумал.
– Ладно… Еще неизвестно чье дите у ней. Да и пусть, девок у нас на селе прорва. А ты, Дашух, у отца была что ли? Он тут в Махровке в дому бабы своей живет, от мамки вашей хоронится. Могу отвезть. На санях.
Дарьюшка помолчала. Но выдержать не смогла, спросила.
– А ты был там что ли? Откуда знаешь?
Колька снова усмехнулся в усы.
– Батька был. Говорил хорошо живут, дом большой, баня. Хозяйство. И Ксения та на сносях, вроде. Поедешь?
Дарьюшка пошла было по тропинке, но вернулась.
– Поеду. Когда?
– Да хоть завтра. После церквы. Успеешь управиться? Мамка пустит?
Дарьюшка кивнула и пошла прочь, побежала почти…
…
Анастасия пила беспробудно. Закрутила было с Тихоновым отцом, но тот быстро бросил ее и не появлялся больше. Да и нечего было с нее взять теперь – от красоты ничего не осталось, хозяйство она забросила, и если бы не Даша, да не бабка, прибегающая к внучке каждый день на помощь, у них и еды бы не было. Но хозяйство они тянули, Машка приходила помогала, да и кузнец не оставлял, все что-нибудь да принесет, прикупит. Так и пережили зиму, впереди лето, все проще, да тут и надежда у Дарьюшки появилась – к папке перейти. Нашептала она Машке про это, та помолчала, погладила живот, который рос у нее прямо по часам, вроде уж все девять месяцев со свадьбы минуло, сказала.
– Гад, он Даш, папка наш. Слюнтяй. Уж давно бы тебя забрал, а он – вишь, нас позабросил, чужого ждет. Не верь ты ему, поганый он. Снова бросит.
Дарьюшка поморщилась, не сказала сестре, что к отцу собралась, но что-то такое противное высунулось из нее, спросила
– А ты сама-то! От Кольки, наверное, живот-то!
Машка вскочила, оттолкнула сестру, прошипела.
– Дура! И не думай. От Тихона это, я еще после свадьбы рубаху меняла, ишь выдумала! Тишино дите!
…
Утро воскресенья выдалось снежным. Началась такая пурга, что в окно улицы было не видно, дальняя береза казалась окутанной белой вуалью, а тропинки разом занесло, наверное и в валенках не пройдешь. Дарьюшка со страхом думала, как они с Колькой поедут в такую страхотищу, мысли даже не допускала остаться. Мать валялась после вчерашнего на печи, даже головы не поднимала, она явилась непривычно поздно, уж за полночь. Да расхристанная такая, страшная, глаза выпученные, рот наперекосяк, трясется вся то ли от недопоя, то ли лишку взяла. Схватила с полки бутылку, вылила в себя остаток, вскарабкалась на лежанку и захрапела. Дарьюшка тогда подумала, что и слава Богу, в церковь она не пойдет, уедут они без ругани.
Даша уже было хотела одеваться, достала праздничный платок с кистями, но тут увидела бабушку. Вся встрепанная, в накинутой кое-как шали, она бежала к дому, проваливаясь в снег, и что-то то ли кричала, то ли стонала.
– Ой! Девка! Беги за Машкой! Кузнеца кличьте. Да скорее, что встала, как коза твоя! Папку вашего с женой в бане подожгли. Господи! Спаси ты их и помилуй…
…
Когда Дарьюшка вбежала в дом, упала у кровати, споткнувшись о половицу, подползла кое-как, схватила отца за руку, он еще дышал. Привстал, посмотрел на дочек, прошептал что-то еле слышно. Лица его и не видно было толком, все тряпками замотано страшными, черными. Только глаза видно, да губы шевелились. Он шептал, но Дарьюшка не понимала слов… И только потом, когда они вышли из дома подышать воздухом, она поняла, что он говорил. “Простите меня…”
Ксения выжила. Она только немного обгорела, рука одна, да бок справа. Папка вытащил ее из огня, бросил прямо с крыльца в снег, а тут крыша и обвалилась. А вот дите она не уберегла. Скинула…
Глава 17. Ксюша
Когда мать уводили, Дарьюшка не плакала. Просто смотрела, окаменев, как два здоровенных мужика, ухватив Анастасию с двух сторон под руки тащили ее к саням, как усадили на лавку, сами уселись с двух сторон, как третий, тот что служил у них кучером, бросил им на колени одеяло, и поднял полог. Мать не смотрела в сторону сельчан, она тупо, глядя в одну точку все перевязывала и перевязывала концы у плотно повязанного старого пухового платка, как будто от этого зависело что-то важное. Не плакала она и когда Машка нашептывала ей на ухо, что никак не может пока принять сестру у себя в доме, потому что ей тяжело, что хозяйство, да и дите она ждет, и что она об этом даже не заикается Тихону, который, конечно не откажет, но им и самим тесновато будет с дитем. Дарьюшка подумала, правда, как это тесновато, если по их дому можно кататься на санях, но промолчала, потому что и сама не хотела к ним идти.
– Ты что, Маш? Ну куда я хозяйство кину. Тут и Муська, у нее вот-вот козлятки родятся, да и куры с утями. Я пока тут. Бабушка еще приходить будет… Обещала она. Санька. Не пропаду.
Машка закивала быстро-быстро, даже втихаря вздохнула облегченно и быстренько убежала домой, как будто брезговала находится в доме “Убивицы”. Бабушка тоже, потоптавшись, ушла, потому что у нее и там было невпроворот, только погладила Дарьюшку по голове. Но, обернувшись у дверей, сказала.
– Ты, детонька, коли решишь, Муську веди завтра к нам, курей дед придет с Санькой, переловит, а тебе уголок найдется. Че уж, коль так.
Но Дарьюшка помотала головой, она не хотела никуда идти, ей хотелось только лечь, накрыться с головой одеялом и так лежать, ни о чем не думая. Прошло уж две недели с того ужаса, все это время они с матерью прожили, как будто и не видя друг друга, а вот теперь, когда Анастасию увезли, Даша вдруг очень остро поняла – она одна.
Но день пролетел незаметно. Пока курам набросала, пока Муське сенца положила, благо доить не надо было, пока печь уже остывшую затопила, и день прошел. Еще не темнело, но уже начало смеркаться потихоньку, Даша вскипятила чайник, положила себе меду на тарелку, отломила половину каравая свежего хлеба, который принесла бабушка, села и вот тут… Слезы просто хлынули градом, потоком потекли по лицу, да так, что разом намокла вышитая салфетка, которой Даша пыталась вытираться, во рту стало солоно, а в глазах темно. Кое-как добравшись до кровати, Дарьюшка легла, стараясь унять колотящееся сердце, обняла подушку, чуть успокоилась и…уснула. Даже не уснула, провалилась в какой-то вязкий темный кисель, он принял ее в свои скользкие объятия, покачал, как на волнах, и чуть не задушил, лишив возможности дышать. Дарьюшка, наверное бы из него и не выбралась бы, так и осталась там без света и воздухе, но чья-то рука настойчиво тянула ее оттуда, крепко вцепившись в плечо.
– Даша, Дашенька. Что ты…
Тоненький, странно знакомый голосок был неприятно – навязчивым, он тянул Дарьюшку из спасительных тяжелых, но теплых слоев киселя, и от этого ей было зябко и тошно. Она попыталась оттолкнуть чужую руку, и сунуть голову под подушку, чтобы голос не сверлил ей воспаленную голову, но ничего не получалось, у нее не было сил даже перевернуться. И она снова провалилась в темноту, правда ей уже не было так душно, а, наоборот холодно, как будто кто-то проткнул дырку в вязких слоях и оттуда повалил мороз.
…
Когда Дарьюшка снова открыла глаза, в окно, сквозь неплотно закрытые занавески светило солнышко. Оно было нежным и ласковым, утренним, но таким теплым, что Даше захотелось подставить ему влажное лицо, и так посидеть, нежась. Она сначала даже не могла вспомнить, что происходит, почему она в кровати, где все, но вдруг ее накрыло этим воспоминанием, как черным тяжелым покрывалом. Застонав, Даша попыталась сесть, но не получилось, руки не держали ее совсем, подламывались, как будто не руки, а соломинки. Но тут же кто-то сзади поддержал ее, подоткнул подушку, запахло хлебом и молоком, знакомо, до слез.
– Сейчас, Дашуль. Сейчас. Погоди, помогу.
Женщина поплотнее подсунула под Дарьюшкину спину подушку, села рядом, и погладила ее по щеке. Даша смотрела на тонкое, курносое, нежное лицо с ласковыми светлыми, не поймешь какого цвета глазами, с конопушками на носу и бледноватых щеках, и пыталась вспомнить, где она ее видела. И никак… Не вспоминалось.
– Вот умница. Глазки открыла, значит поправишься. Сейчас я тебе отвару липового принесу с медом. Знаешь кто липового цвета нам принес? Не угадаешь, лапонька… Да ты не узнаешь меня, что ли?
Дарьюшка помотала головой, с тревогой глянула на столик, там на вязаной салфетке лежали ее сережки, хотела что-то сказать, попросить, но вдруг заплакала. Женщина ойкнула, взяла сережки, сунула Даше под подушку, поцеловала ее в макушку.
– Да тут они, тут. У тебя будут, не плачь. А я Ксюша. Помнишь меня? Я уж тут деньков десять с тобой, уж больно ты болела, детка.
И Дарьюшка вспомнила. Хотела было оттолкнуть от себя злыдню эту, из-за которой погиб папка, но зла не было, только горечь и беда. Она снова всхлипнула, Ксюша пересела к ней на кровать, прижала ее голову к своей груди и гладила, гладила ее по голове, как маленькую, пока не кончились слезы.
…
– Ну вот! Надо мне, Дашенька, домой собираться. У меня ж там хозяйство, нельзя надолго бросать его, и так уже. Хорошо, сестрица согласилась поглядеть, теперь по гроб жизни ей обязана.
Даша с Ксенией сидели за столом, попивали чай из блюдечек. Даша уже вовсю управлялась в избе, но на улицу пока не выходила, страшновато, кашель никак не унимался. Да и Ксюша не особо на улицу нос высовывала, все соседки шипели, как гусыни, аж шип стоял, вроде стадо разбередили. Зато Колька так и бегал к ним, то масла принесет, но пряников, то цветов липовых, как будто медом ему здесь намазали. А вчера, оторвав приличный ломоть от хлеба, который спекла Ксения, сказал.
– Ты, Ксюха, коль домой надо, обращайся. Я свожу. Мне не трудно.
Ксюша ворочалась всю ночь, ну завела разговор.
– И вот что я думаю. А поехали со мной! Будем там жить, у нас село такое красивое, по хозяйству мне поможешь, нам с тобой вдвоем хорошо будет. А?
И Дарьюшка вдруг согласилась. Сама даже не знала, почему
– Поеду, теть Ксень. Только Муську возьмем. А?
Глава 18. Переезд
Несмотря на свежий, уже совсем весенний ветер, который лепил мокрым снегом прямо в лицо, гарь от спаленной бани стояла в воздухе. Колька еще даже не въехал во двор, натянул поводья прямо около высоких дубовых ворот, отдраенных чем-то до янтарного отсвета, а гарь уже въелась в горло, мешала вздохнуть, щекотала нос. Дарьюшка закашлялась, Ксения натянула ей платок снизу до самого носа, шепнула
– Да, смотри-ка. Все стоит гарь эта. Ну, ничего, привыкнем.
Она соскочила с саней, крохотными рукавичками уперлась в тяжелую калитку, и та открылась странно легко и послушно.
– Ишь… Справные хозяева-то! Говорили люди, что у ней батяня справный. Не врали.
Колька басил завистливо, хотя, вроде и у самого батя не бедствовал, хозяевал хорошо. Дарьюшка недовольно дернула плечиком, буркнула.
– Ишь, завистливый. Муську помоги отвести.
Вместе с Колькой они стянули козу, и Дарьюшка пошла следом за Ксенией. Зашла…и онемела. Тогда, когда она ничего не видела от слез и отчаянья, она даже не поняла, насколько огромен и ухожен Ксенин двор. Все крепкое, все обмазано глиной, даже сараи, побелено, под высокими теплыми крышами. У них в селе не все люди так живут, не то что куры. А те – крупные, пестрые, упитанные гордо бродили по выгону, обнесенному новеньким плетнем, клевали что-то в снегу, смотрели на Дарьюшку, чуть склонив голову круглым насмешливым глазом, как будто говорили – тебе, доходяжка, зерна дать что ли? И телка – странно маленькая, с острыми, как булто игрушечными рожками тоже смотрела жалостливо, пыхтела красивыми круглыми ноздрями, выпуская облачка пара, и вдруг мукнула, протяжно и звонко.
– Это она тебя признала, Дашунь. И Муську твою. Давай-ка, заходи. Колю тащи, там Любавка к чаю пирогов напекла гору. И батя придет.
Ксения затеребила Дашу, потащила за собой к крыльцу, а Колька, пыхтя, как паровоз, подтащил козу в плетню, крикнул.
– Куда Муську-то ставить! Чего вы там кудахтаете, калитку отворите!
– Сюда ставь. Что расшумелся? Вон, я сарай открыл.
Мужик в распахнутом полушубке, в шапке, съехавшей на одно ухо, перехватил у Кольки веревку, утянул Муську в выгон, упираясь ей в зад, запихнул упрямицу в сарай, затворил дверь.
– Уф. Ну, она у вас и дура здоровая. Молока хоть дает?
Дарьюшка кивнула, и вдруг прыснула, зажав ладошкой рот. Мужик был взрослый, даже старый уже, но уж очень маленький и смешной, похожий на домового. У него на добром морщинистом личике почти не было видно глаз – узенькие и совсем маленькие они прятались в морщинках, как пуговки в складках, но все равно было понятно, что они ласковые. Он подошел к Ксении, обнял ее и чмокнул в висок, они оказались одного роста. Ксения поманила Дашу рукой, и когда она подошла, сказала.
– Знакомься, Дарьюшка. Это мой батя. Мамки нет у нас, только я, Любавка и он. Теперь и ты с нами будешь.
Мужичок оторвался от дочери, стащил рукавицу, протянул Дарьюшке мозолистую детскую руку.
– Дед Митя. Будемте знакомы. В дом прошу. И молодца своего с собой берите, ишь насупилси.
Он пошел к дому, а Дарьюшка прошептала Ксении.
– Я думала ты сиротка. И люди говорили, что нет у тебя никого.
Ксения улыбнулась, тоже прошептала чуть наклонившись.
– Ты людей не особо слушай. Они наговорят… Но батя и правда не хотел, чтобы мы тебя к себе брали. Он и папку твоего не хотел, ругался страшно. А Любавка до сих пор злится. Они с папкой в другом дому живут, в мамкином. Но ничего, я вас сдружу. Не бойся.
В сенях было холодно, чисто и пусто. Ни бочки с огурцами, ни травок – просто вычищенные до белизны лавки, вешалки, на которых висели тулупы и больше ничего. И Дарьюшку вдруг резануло до острой боли в груди – у самого окошка, плачущего уже весенними слезами висел папкин тулуп. Тот самый, от которого пахло дегтем и табаком. Ксения проследила за взглядом девочки, сказала тихонько.
– Уберу завтра, Дашунь. Только не плачь.
А вот на кухне, в которую они попали сразу, закрыв за собой двери в сени, кипела жизнь. Дышала жаром чисто выбеленная печка, ворчал чайник, пахло пирогами, жареной печенкой и клубничным вареньем. Такая же крошечная, как тетя Ксюша женщина, только постарше, покруглее, что-то делала у печки, и когда она обернулась ее круглое полное личико тоже пылало.
– Ой. Кто к нам пришел-то! Красавица какая, на папку похожа. Ну, проходи, проходи, коль пришла. Надолго ли? Вон, женишок твой говорит, что к вечеру до дому собрался. И ты с ним что ль? Рано женихаетесь…
Дарьюшка насупилась. Ей вдруг очень не понравилась эта толстая женщинка, от нее так и веяло недобрым, даже глазки были, как гвоздики острые и колючие. Но тетя Ксюша закрыла Дашу собой, сказала резко и звонко.
– Она насовсем, Любава. Со мной жить будет, ей не с кем больше. Николка один домой поедет, до темна. Ну-ка, что там за пироги у тебя?
Любава поджала тонкие губы, но промолчала. Подошла к столу, сняла полотенце с миски, а там – золотистые, как солнышки, блестящие от масла, запашистые до спазма в горле высились пирамидой пирожки.
– С картошкою, грибами и луком, как ты любишь. Да с капустою и яйцом для бати. С печенкою еще. Ну, а гостья твоя уж не знаю, какие будет. С яблоком еще есть.
Ксюша подошла к сестре, обняла ее за толстенькую талию, защебетала ласково.
– Уж ты моя мастерица. Все она любит, лучше твоих пирогов и не едала. Давай-ка, к столу.
Любавка чуть подобрее глянула на Дарьюшку, буркнула.
– Ну, ладно. Твой дом, тебе и решать. Не мое дело-то. Своего потеряла, так падчерицу воспитаешь. Бог поможет. Только замуж тебя с таким довеском никто не возьмет боле. А ты, красота!
Любава повернулась к Даше, задумчиво потрогала толстеньким пальцем ее сережку.
– Ишь…Мала, а уже. Тетя Любава меня зови. Так и быть.
Поужинали весело, Дарьюшка больше не чувствовала, что на нее сердятся. Дружно помыли посуду, проводили тетю Любаву с дедом до калитки, потом спровадили Кольку. И когда уже на дворе совсем стемнело, Ксюша села около Дарьюшки, растерянно приютившейся у окна на лавке, сказала.
– Не грусти, маленькая. Хорошо заживем с тобой. У тебя комнатка своя будет, нарядим ее красиво, занавесочки повесим, скатерок навышиваем. А какой у меня для тебя тулупчик есть, ты бы видала! Васильками расшитый, прям точно как твои сережки. Самая красивая будешь в деревне. А завтра в церкву пойдем с тобой, у нас батюшка такой славный, всю грусть излечит. Не грусти.
Дарьюшка спала на удивление крепко. И под утро ей приснился сон. Она идет вдоль реки, вокруг цветут ромашки, васильки, еще цветы какие-то, весь берег в цветах. И на ней венок – весь белый, как будто из тех ромашек и белых розочек. И платье на ней длинное, простое, как рубаха, но с кружевом у ворота и на рукавах. Вокруг птицы поют, вода журчит, как поет, а в воде лилии распускаются. И вдруг она видит на том берегу парня. Высокого, красивого, с волосами по плечи. И она понимает, что уже видела этот сон, он повторялся много раз, а может и наяву это было. И так хорошо у нее на сердце, так радостно, что она проснулась, улыбаясь. И с души, и правда, как будто камень сняли.
Глава 19. Встреча в храме
Церковь в Ксюшином селе была большая, нарядная, намного больше чем та, в которую они ходили дома. Она стояла на невысоком холме, к которому вела широкая дорога, усаженная соснами, и казалось, что это даже не дорога, а такой длинный и святой коридор, по которому надо идти к Богу. Солнце уже взошло, его яркие и теплые лучи отражались в золоченых куполах и даже слепили, и было так тепло, как будто не конец февраля на дворе, а конец апреля. Даже пахло так – нагретой землей, теплой водой и, почему-то, сиренью. Дарьюшка потянула носом, а тетя Ксюша засмеялась тоненько, сказала.
– Цветок чуешь, пахнет. Это мне папка твой духи купил. Я их положила сначала, стыдно было душиться-то, не барышня, а сегодня думаю – дай, достану. Как?
Дарьюшка привстала на цыпочки, хотя она и так уже была с маленькой Ксенией почти вровень, снова потянула носом, шепнула.
– Хорошо пахнут, теть Ксюш. Прямо сиренями. Как весной.
Ксюша стыдливо натянула платок, спрятала высунувшиеся пряди, стащила с Дарьюшкиной руки рукавичку и сунула ей в руку что-то кругленькое и теплое.
– Держи. Тебе отдам, я вдова, мне совестно. Хоть и не венчались мы с папкой твоим, а все равно. А тебе можно.
Она вдруг остановилась, подтянула Дашу за рукав к себе, глянула странно, как собачка.