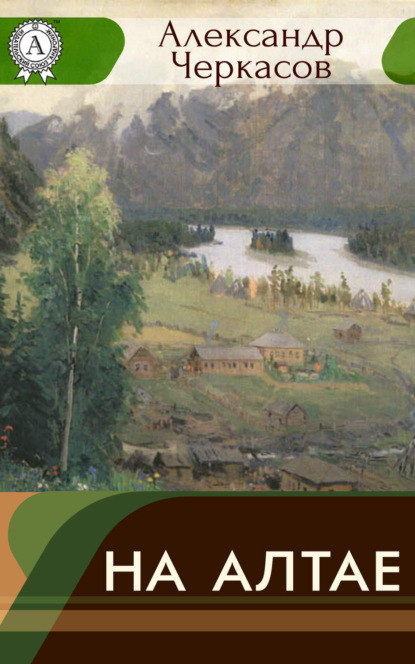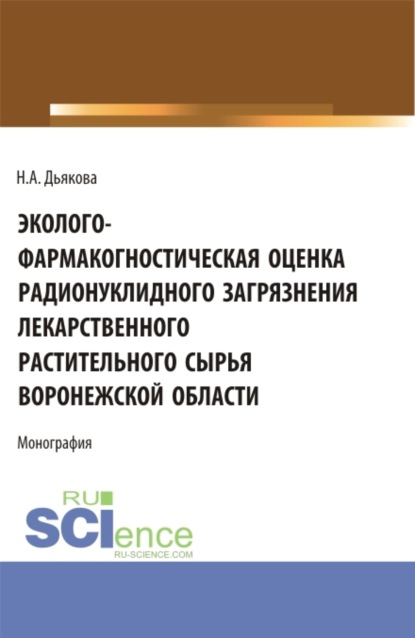- -
- 100%
- +
– Дашунь…Что ты все тетя, да тетя! Ксюшей зови меня, а и старше -то тебя на пять лет всего. А?
Дарьюшка кивнула. Ей тоже говорить “тетя” этой совсем девочке было как-то неудобно. А так… Как хорошо…
…
Храм и внутри был таким же торжественным, как снаружи. Широкая белая лестница с гладкими, отполированными перилами вела на красивое крыльцо, тоже широкое, окруженное решеткой из тонких деревянных планок, наверное, летом они увиты цветами. Тяжелая резная дверь открылась легко, светлый притвор по бокам которого высокие сводчатые окна перемежались с такими же сводчатыми дверями был холодным и строгим, у Дарьюшки даже от волнения что-то колыхнулось в груди и похолодели руки. Ксюша поняла, сжала ей ладошку, пробормотала успокаивающе.
– Не бойся… Батюшка добрый у нас, матушка молодая да ласковая. Не обидят.
И правда, когда они зашли, к ним навстречу уже шел молодой священник. Невысокого роста, с небольшой рыжеватой бородкой, с ласковыми зелеными глазами и немного печальной улыбкой мягкого большого рта.
– Здравствуй, Дашенька. Говорили мне, что у нас новая прихожанка, да умница-красавица. И правда, умница, раз в первый же день в храм пришла. А в школу к нам ходить будешь? Матушка интересуется.
Дарьюшка смутилась, после строгого батюшки в их церкви, ей показалось странным такое отношение, она растерянно кивнула и покраснела. Батюшка понял, что смутил девчонку, кивнул Ксюше, перекрестил обеих и пошел к алтарю, тихонько покачивая кадилом. Ксюша потянула Дашу за собой, шепнула.
– Тут будем. Сейчас батя и сестричка придут, мы всегда тут стоим. Ты постой, я за свечками
Она поставила Дарьюшку около колонны, поправила платок, совсем по старушечьи повязав его, опустив на лоб, и посеменила к лавке, чуть сгорбившись и меленько перебирая ногами.
И тут Дарьюшка разом забыла где она и зачем пришла. Недалеко от нее, у другой колонны стоял Глеб. Он был один, длинные волосы забраны в хвост, спрятанный за повязанным на шее платком, новенькая чистая одежда аккуратно отглажена, в руках он держал свечку. Дарьюшка хотела было подойти, но он так истово молился, не отводил глаз от иконы с Божьей матерью, шевелил губами, и не вытирал слез, градом катившихся по лицу, что она не решилась, осталась стоять на месте. Ну, а когда к нему подошла бабка, Дарьюшка никак вспомнить не могла, как ее зовут, так и вообще подойти стало невозможно. А там и служба началась.
…
– Ксюш… Ты не знаешь ничего про мальчишку, который рядом с нами стоял? С бабусей такой. Ты видела?
Ксюша щедро разлила свежий, еще горячий вишневый кисель по кружкам, нарезала свежего хлеба, достала из сеней сметаны и творог. Батя и тетка Любава домой пошли обедать, они и особо ничего готовить не стали, и так хорошо.
– Ооой… Это ты про внучкА ведьмачьего? Кто ж его не знает-то, все знают. Он в городе жил, учился художествам, да мать его Дунька утопла в проруби. Говорят, оступилась. Ну он и приехал, тут зиму пожил, а в весну назад поедет. Он там знатно рисует, люди видели, говорят и нет таких больше-то. А ты чего? Уж не влюбилась ли?
Дарьюшка вспыхнула, хотела было убежать из-за стола, вроде как молочка зачерпнуть, но Ксюша крепко ухватила ее за рукав, притянула.
– Постой, постой. Это не его ли картинка у тебя? Ту что мы на стенку повесили? А? Ну-ка признавайся, тихонушка!
И Даша вдруг рассказала своей новой подруге про то, как Глеб рисовал ее тогда в лесу. И про то, как бьется у нее сердце, когда она на эту картинку смотрит. И про сон. Тоже рассказала. Ксюша слушала внимательно, молчала. И вдруг обняла ее крепко за плечи, прижалась губами к виску, зашептала в ухо.
– Он, детка, если суженый, так не денется никуда. Ничего не нарушит связь эту, хоть земля разверзнется, хоть света конец будет. И ты не бойся. Он всегда найдет тебя снова, даже если пропадет, даже если ты и не сразу узнаешь его. Слушай…
Ксюша вдруг заплакала навзрыд, выскочила в сени, но вернулась снова, у нее дрожали губы, покраснел нос, но она держалась.
– Знаешь почему я не померла от горя после пожара того? Я знаю, что папка твой снова вернется ко мне. Даже если лицо у него будет другое, это все равно он будет. И я его узнаю. Я жду. Я завтра к бабке этого Глеба иду, но не к той, что в церкви молилась, к другой. К той, что в лесу живет. Она в храм не ходит, а таким, как я помогает. Пойдешь со мной?
…
Дарьюшка долго не могла уснуть. Она думала о том, узнает ли она папку, когда тот вернется. А вдруг нет? И как жить тогда, если она его, своего любимого и дорогого не узнает…
А в окно стучал дождь. Самый настоящий – как будто лето на дворе. И мерный, навязчивый стук крупных дождинок постепенно усыпил Дашу, как будто на нее накинули черный, непрозрачный, но теплый и уютный платок…
Глава 20. Марина
– Смотри, Ксюша… Тропка есть, а я думала в лесу этом не бывает никто. Надо же…
Дарьюшка, кое-как пробравшись сквозь заросли дикого шиповника, оказалась на полянке, странно натоптанной, как будто тут бегало стадо коз. Но следы были и человеческие, не только от копыт, да и полянка не была похожа на естественную, ее вырубили. И тут и там на волглом предвесеннем снегу валялись щепки, с пеньков, оставшихся от срубленных деревьев уже сползли шапки тяжелого снега и казалось, что это лешаки посбрасывали свои трухи, жарко им стало от сияющего утреннего солнышка.
Ксюша, пыхтя, тоже выбралась из кустов, постояла, отдышалась, похлопала варежками, стряхивая с них мокрый снег.
– Упала, глянь. Прямо такая стала неловкая, самой стыдно. А насчет тропы, так чего удивляться. Бабка тут по дрова лазит, да и внучок ее, Глеб твой тоже. Он с той стороны к ней ходит, там по липняку дорога проложена, это от нас ходу нет.
– Туда, вверх. Видишь, холмик, он над прудом, мы на него и вниз. А у пруда и дом. Там и старуха эта. Я была у нее уж. Не поверила тогда…И Дарьюшка вспомнила, как сидели они тогда в липняке, как Глеб рисовал с нее картинку, и так ей стало горько почему-то, и так, одновременно, светло и радостно, что даже почувствовалось сквозь холодный запах талого снега аромат липового цвета. Как будто наяву… Ксюша смахнула слезинку, но удержалась, не заплакала, улыбнулась.
– Ксюш. А мы что к ней-то? Лечить чего или что?
Ксюша вдруг обернулась, схватила Дарьюшку за плечи, заговорила горячо и истово, быстро, как будто молилась.
– Знать хочу, детонька, Сколько мне ждать папку твоего, и ждать ли. Она все знает, бормочет, вроде ерунду какую, а вслушаешься, так там судьба. Она мне говорила, чтобы я огонь к воде не пускала, чтобы до пятой луны себя водой не окатывала, а я не послушала. Дура была. Теперь каждое слово запомню. Пошли.
К пруду они спустились быстро, и сразу дом увидели, да как такой не увидеть. Дом у ведьмы был на удивление большой, обнесенный плетнем высоким, калитка, правда, была нараспашку, а вдоль плетня бродили гуси. Что им надо было в снегу, чудным, но ходили, смешно переставляя красные ноги, лопотали что-то, выклевывали из -под снега, там, где под весенним солнышком уже протаяла земля.
– У нее раньше и дед был. Они тут всю жизнь жили, У тетки Дуни, говорят, мужик чудной был, умный очень, а некрасивый, как черт. А мать – красотка, но чудная, юродивая как будто. И, говорят, Глебка этот на нее походит. И тоже чудной. Вон, глянь, старуха.
Дарьюшка заглянула за калитку, куда ей показывала Ксюша, а там, на крыльце и вправду стояла женщина. Только вот старухой ее было не назвать – высокая, тощая, как щука, но стройная, моложавая, издалека, так вообще девица. Вдруг поднявшийся ветер развевал ее широкую темную юбку, она удерживала под подбородком цветастый платок и была похожа на цыганку, таборную, приблудившуюся к чужому дому.
– Ты ничего не спрашивай, я сама. Да она и не слушает, сама говорит. Ее Марина зовут. Не бабкой, и тетей не называй, прямо вот так – Марина. Не любит по другому.
Ксюша пошла к крыльцу, Даша за ней, женщина напряженно следила за их приближением, и когда они уже начали подниматься по ступеням, повернулась и пошла в дом. Теперь уже Дарьюшка разглядела, что она, конечно, старая – смуглое лицо, как будто выдубленное солнцем, как телячья кожа, было все в мелких морщинках, через высокий лоб тянулась настоящая борозда, темная, как рытвина в земле. Но то, что она была красива чувствовалось, казалось, закроешь глаза и ее образ встанет перед тобой, как живой – юной, смуглой женщины с темными глазами и, на удивление русой с рыжинкой косой, точно такими были волосы у Глеба.
Дом и внутри был огромен. Светлые сени, за ними сразу большая комната – то ли кухня, то ли зал, не разберешь, высокая, беленая с синькой печь, разрисованная какими-то сказочными городами, узкие деревянные двери из янтарного дерева, длинные кушетки, покрытые вышитыми покрывалами, на которых высились пирамидой пышные подушки с кружевными накидушками. Везде чистота, свет и холод. Как будто здесь поселилась сама зима…
Марина молча сняла полушубок, скинула платок, а под ним оказалась белоснежная косынка, съехавшей на затылок. Так же молча она перевязала косынку, на мгновение показав седые волосы, сплетенные в косу, уложенную на затылке двойной петлей, повернулась. Теперь, когда она закрыла лоб с этой черной бороздой, плотно завязав косынку узлом назад, сразу показалась моложе. Но усталой и чуть нездоровой.
– Туда…. И ждите…
Марина мотнула головой, показав острым подбородком на светлую дверь, а сама ушла за занавеску, которая отделяла задний угол печи и запечное пространство всей комнаты. Ксюша потянула резную ручку двери, легко открыла ее и они попали в полутемную комнату, посреди которой стоял круглый стол. Стол был накрыт тяжелой вязанной скатертью, столе стояла ваза из черного металла, а в вазе красовался пышный букет роз. И только подойдя поближе, Дарьюшка поняла, что розы сделаны из перьев, раскрашенных красками нежных цветов.
– Не трожь. Отойди…
Голос был резким и трескучим, Дарьюшка отдернула руку, но Марина вцепилась в ее локоть, забормотала хрипло.
– Ходишь-ждешь…ходишь-ждешь. А он с трудной душой, придет-уйдет, молодой-старый, а не твой будет. А потом совсем уйдет, знаю я его, с неба усмехнется, но вернется. Вернется. А ты все будешь ходить-ждать, ходить-ждать. Уйди!
Дарьюшка даже не испугалась, она ничего не поняла, просто смотрела, как двигаются сухие, морщинистые губы, и ей, почему-то хотелось вторить – “ходить-ждать, ходить-ждать…” Но Марина неожиданно оставила ее, как будто сразу забыла о девочке, подошла к Ксюше, потянула ее за руку, заворчала
– Говорила, говорила, а ты не слушала. Воду пустила к себе, вот и огонь пришел, все забрал. Теперь с чужим станешь жить, не любить, но жить, станешь, станешь. Он уже тут, руки расставил, этими руками и схватит тебя. Девочка будет, мальчик будет, а тот тебя руками, все руками. Синяя будешь, страшная, а я говорила. Но знай!
Марина подошла к столу, коснулась пальцами одной из роз, а потом вдруг выхватила ее, оборвала перья, обнажив ярко-синюю серединку. И, подскочив снова к Даше, стащила с нее платок, дернула за сережку.
– Синяя. Видишь – синяя. Это он оставил тебе. Береги синее, и он вернется, Ксения. Ты знаешь, я знаю, он знает. Дождешься, коль не дура, всякое пройдешь, все испытаешь, а он придет. Жди…
И вдруг завыла, как волчица в лесу, бросилась в угол и исчезла, вроде ее и не было. И только приглядевшись Дарьюшка увидела маленькую дверь, ведущую то ли на погребицу, то ли в кладовку.
– Опять бабушку расстроили. Теперь до вечера не успокоится, кто вас пустил-то? Ой! Даша?
В дверях стоял Глеб. Он стянул пушистую шапку, вытирал кончиком вязаного шарфа тающие на лице снежинки и удивленно смотрел на гостей.
Глава 21. И снова сон
Дарьюшка смотрела на Ксюшу с ужасом. Ее, как будто подменили, не было больше ласковой девочки-женщины, по двору бегала суетливая женщина с растерянными глазами, похожая на какого-то знакомого зверька – то ли енотика, то ли мышку. Она стягивала с веревки еще не высохшее белье, кидала его в корзинку, потом вдруг бросала это, хватала ведро и начинала собирать яблоки – огромные, золотые, как будто пропитанные солнцем. Вчерашний ветер посбивал антоновку, устлал ею уже начинавшую жухнуть траву, как чудным ковром. Набрав полведра, она бросила и это, снова кинулась к белью, потом вдруг распрямилась, закричала звонко и отчаянно
– Ну что ты стоишь? Помогла бы! Видишь, не успеваю, мне пирог еще печь, да повидло ставить. Завтра же не успею.
Даша взяла ведро, быстро накидала в него яблок, подошла поближе
– Не кричи, Ксюш. Ну что ты всполошилась? Успеем, вся ночь впереди. Да и не успеем – не барин. А может…
Она взяла Ксюшу за руку, потянула к лавке, спрятавшейся за кустами смородины, усадила, села сама.
– А, может, ну его, Ксюнь? Ну что ты в самом деле, мужиков полно, а ты хозяйственная, умница, найдется еще какой. А этот… Ну, не для тебя он. Зачем?
Ксюша сидела молча, опустив глаза и теребила в руках краешек расшитого фартука.
Дарьюшке наотрез не нравился этот Ксюшин жених. Навязался, как черт, ездил каждый день, подарки таскал, слова такие говорил ласковые, а глаза злые. Да и сам – низкий, короткий, но широкий, как шифоньер, руки корявые, сведенные судорогой как будто, ноги кривые, толстые с длинными ступнями. Как так случилось, что Ксюша с ним сошлась, одному Богу известно, но сошлась, а теперь замуж собирается. Завтра вот придут сговариваться. Хоть уведи ее куда подальше, хоть спрячь.
– Зачем? Зачем….
Ксюша говорила тихо, как будто про себя, как будто уговаривала свое сердечко, а оно не слушалось, трепыхалось.
– Ты, вот, деточка, тоже растешь. Не успеешь оглянуться, замуж от меня сбежишь. Так я с кем останусь – то? С котом Мурзиком? Ты даже Муську свою заберешь, а я тут буду на луну по ночам выть. А он, Василий, добрый.
Даша всплеснула руками, даже вскочила от возмущения, крикнула.
– Добрый? Да он смотрит, как пес цепной, глаз стеклянный, вроде и не человечий. Ты что – не видишь? А я как?
Ксюша вытерла рукавом слезы, подняла голову, лицо у нее было, как у потерявшегося ребенка – виноватое и жалкое.
– А ты видишь? Еще года три я замуж вообще не выйду, некрасивая, знаешь же. Это твой папка не замечал, она как будто другими глазами смотрел. А все видят. Да и тяжелая я от него!
Она встала, с трудом подняла таз с бельем, медленно пошла к дому. А Дарьюшка так и смотрела ей вслед – со страхом и жалостью.
…
– Да ты не бойся, Дашуль. Будешь к бабке моей ходить, да и я меня часто привозят. А хочешь я с ней поговорю, так она тебя к себе пустит, ей помощница нужна, травы там, да и по хозяйству. Только не плачь.
Дарьюшка с Глебом сидели на самом обрыве, там где огромная старая сосна почти склонилась над водой, выставила корни из толщи песка, и на этих корнях можно было сидеть, как на лавочке. Со стороны берега их было не видно, это было их любимое место, они здесь прятались от всех, когда Глеб приезжал.
– А на следующий год я уж отучусь. Тебе пятнадцать будет, я тебя замуж возьму… А? Как? Пойдешь?
Дарьюшка хотела было возмущенно вскочить, Но Глеб удержал, заставил сесть, щелкнул по носу
– Ишь, запрыгала. Испугалась? А что? Мне восемнадцать будет, барин мне мастерскую дает, с домом, жить есть где? Или не нравлюсь тебе?
Он сжал ее руку в горячих ладонях, но Дарьюшка помолчала, отняла руку, сказала тихонько.
– Смотри, Глеб, как быстро река течет. И как кружит листья, видишь там- где омут? Даже голова кружится, вдруг упаду…
Глеб встал, потянул ее за руку, они по узкой, почти отвесной тропке выкарабкались на берег.
– Не ответила. Говорить не хочешь?
Дарьюшка хмыкнула, глянула на парня снизу вверх, шепнула
– Не хочу! Пока…
…
Сговор шел тоскливо, как будто это была не радость, а беда. Да и сговором -то это нельзя было назвать особо – так, пришел жених прямо в том, как был – в обсыпанных древесной пылью штанах и драной кофте, столярил в мастерской да и выскочил на минуточку, дед Митя тоже был в будничном, и только Любавка принарядилась – в новой кофте, и ярком платочке, как молодка. Ксюша сидела на табуретке посреди комнаты, жених, стоял рядом, и было похоже, что к табуретке придвинули шкаф.
– А где молодые жить будут? В мужнем дому иль здесь?
Любавка с удовольствием глотнула вина, кинула в рот кусок яблока, прищурившись глянула на Василия. А тот набычился, покраснел даже, буркнул.
– Так она мужняя жена будет, а мужней жене положено в мужнином дому жить! Чего балабонить зря…а ты не замай.
Любавка довольно кивнула, глянула на отца, но тот молчал… А потом как-то быстро сладили, назначили свадебку через десять дней, да и разошлись.
…
– Ты хоть любишь его, Ксюш? Или так идешь?
Ксюша лежала молча, в окно заглядывала луна, и от этого света ее лицо казалось совсем юным и печальным.
– Я папку твоего люблю. А иду, чтоб одной не быть. Да и дите у меня будет, доигралась с медведем этим.
Во сне Даша видела, как чудная, не очень красивая бабочка с Ксюшиным лицом порхает с цветка на цветок, как будто пытается улететь от кого-то. А цветы огромные, темные, как будто их дегтем облили. И вот на села на самый большой и самый черный цветок, крылышки сложила, и тут кто-то прихлопнул ее огромной рукой, а потом сжал кулак, и рука исчезла. И глянь – на цветке нет больше бабочки, то ли улетела, то ли попалась…
Глава 22. Женихи
– Завтра свадьба, Глеб. Некогда мне. Пойду.
Дарюшка очень стеснялась смотреть парню прямо в глаза, краснела, пыталась вытянуть руку из его теплой ладони, а он не отпускал. Наконец, Даша сладила, сделала шаг назад, да уперлась спиной в толстый березовый ствол, и бежать-то некуда, вокруг терновник, да шиповник, ветки переплелись, не продраться. Да Глеб и не стал настаивать, улыбнулся, поправил Дашин съехавший платок, потом покопался в кармане, вытащил что-то.
– Ты знаешь, Даш, я давно это колечко сделал. Сам, своими руками, меня там и этому учат, здорово получается уже. Да подарить никак не решался, вдруг не примешь. А теперь вижу – примешь. Надень!
Дарьюшка, замерев, смотрела, как Глеб, нервно шмыгая носом, срывает тряпицу, рвет нитки, которыми замотан сверточек, а потом протягивает ей на ладони колечко. И у Даши сердце зашлось – оно было точь в точь – сережки, как будто их вместе делали, а потом кольцо потеряли.
– Глеб… Ты что? Сам такое сделал? Не может быть! А как?
Она дрожащими пальцами сгребла подарок с его ладони, хотела надеть, но Глеб перехватил ее руку, сам взял кольцо, надел ей на средний пальчик, а потом поднес его к губам.
– Глупая… так у меня рисунок же был с сережками твоими. Я и смотрел на него. Нравится?
Дарьюшка, забывшись, отставила руку подальше, и так крутила ею, и этак, залюбовалась совсем, но опомнилась, сжала ее в кулак, сунула в карман.
– Очень. Но стыдно. Что ты как невесте…
Глеб насильно вытянул ее руку из кармана, надел варежку, а потом щелкнул по носу.
– Ты еще маленькая, Дашунь. А когда моей невестой по-настоящему будешь, я такие кольца нам с тобой сделаю, ни у кого таких не будет. На счастье…
Даша снова смутилась, уперлась варежками Глебу в грудь, выскользнула, пошла по тропинке в дому. Но он догнал ее, остановил, придержав за локоть.
– Даш. Я с бабушкой поговорил. И она согласна. Она сказала, что ты непроста, и что она возьмет тебя в ученицы. И жить ты будешь с ней, ей трудно одной. Как? Что скажешь?
Даша помолчала, и вдруг поняла, что она хочет этого. Забраться в этот глухой лес, забиться в избушку, о которой никто не знает, варить там травы какие-то, шептать наговоры, никого не видеть кроме Марины этой чудной. И, может быть хоть это утихомирит противную, гложущую боль внутри. Она кивнула, сказала тихо
– Пойду. Скажи ей, что я согласна, Глеб.
…
На свадьбе Ксюши гостей было немного. Пять человек со стороны жениха, да все какие-то чудные, смурные, молчаливые, темные. Две тетки в простых серых платках и грязноватых по подолу юбках, да три мужика, почему-то похожих друг на друга, только разного роста. Даша краем уха услышала, что это девери… Она не очень хорошо знала, что значит это слово, вроде братья какие-то, да они похожи были все – квадратные, как ящики, и такие же деревянные. А тетки – их жены, где чья непонятно, какой- то один был без жены, да и какая разница. Зашли они молча, поклонились на обе стороны, и сели на лавки – мужики с одной стороны, бабы с другой. А с их стороны пришли люди – три соседки с мужиками, Колька, дед Митя, да Любавка. И вроде и не свадьба даже была, а так, не то праздник, не то похороны, музыки даже не было. Ксюша с новым мужем сидели за столом выпрямившись, как будто им к спинам приколотили доски, не пили и не ели, просто смотрели в стену напротив. И только, когда из раскрасневшиеся от самогона теток вдруг начинала кричать противным визгливым голосом “горько”, Ксюша вставала, и так же, держа спину, поворачивалась к мужу всем телом, а тот клевал ее носом – то ли целовал, то ли долбил.
– Принеси, детка, огурчиков, сбегай. У нас на погребке в бочке, только осторожно, там лесенка плохая. Идите с Колькой, он свечкой посветит, ну потрудись, детонька.
Дед Митя буробил пьяненько, совал ей в руки ведерко, в котором они принесли огурцы из дома, невесть как их так быстро слопали. Даша сердито зыркнула на Кольку, какого лешего он вообще припер на свадьбу эту, но ведро послушно взяла, мотнула головой, пошли, мол.
Колька сиганул своими длинными ножищами через лавку, опередил Дашу, выскочил на улицу. А вечер был прохладным, ясным, и таким чистым, что невольно думалось о зиме. Вот она уже была – прямо рядом, только и надо было бы – насупиться сизыми тучами, дунуть из-за леса ледяными ветрами, запорошить первым снегом еще пока седовато-зеленую полынь и тысячелистник, да и все – конец этой мокрой и волглой осени. Да не тут -то было. Не дает осень степная себя победить не по времени, дышит теплым от пока еще прогретой земли, пахнет резко и пряно полынными травами, руки прочь, зима. Не до тебя.
– Ты чего приперся-то, Кольк? Что тебе тут, медом намазано в деревне этой? Женился бы, что ли! Или все по Маше сохнешь?
Колька крутанулся на пятках, но оступился, чуть не свалился в лужу, чертыхнулся, выпрямился во весь рост, буркнул.
– Я, может, тебя замуж взять хочу. Хошь, сватов зашлю. А то не нужна ты никому, похоже, а я позабочусь. А, курносая?
Он потянул было Дашу к себе, противно ухмыляясь в тонкие псивые усики, но Дарьюшка поднатужилась, толкнула его от себя изо всех сил, и он вдруг поддался, отступил.
– Проходи, постылый. И не лазь сюда, а то лопатой огрею. Ишь, выпучился.
Глава 23. Шурка и Колька
Даша уже собрала узелок, проверила печь – угли еще тлели, дарили тепло, но видно было, что они умирают, лишь кое-где чуть вспыхивал вдруг красный огонек, но тут же мерк. Даша на всякий случай пошерудила кочергой, но огня не было, не занимался, значит еще немного и все остынет. Они договорились с Глебом встретится у околицы, там где тропинка спускается вниз с холма, прежде чем свернуть в лес, и сейчас, в эти последние минутки в этом доме, она вдруг поняла, как она к нему привыкла. А еще она поняла, что нет у нее больше дома нигде. И никому не нужна она больше, похоже, кроме как козе Муське. Да и ту пришлось отдать Любавке, не потащишь же ее в лес, боязно. Мало того, что сама навязалась, так и козу притащит, а вдруг Марина прогонит Муську, а там волки, небось. Нет, пусть Любавка доит, им молоко нужнее. И вдруг от мысли про Муську у Дарьюшки слезы хлынули градом, да так, что щеки сразу стали мокрыми, даже захолодели. Но выплакаться она не успела, к дому лихо подкатила знакомая телега – Колька собственной персоной. Хотела была Даша схватить ухват и спихнуть его с крыльца, как вдруг заметила, что он не один. На телеге, развалившись, как королева сидела высокая девица в белой с незабудками и маками шали. Даша даже не сразу узнала ее, и только когда девушка встала, знакомым движением поправила платок, неумело и неуверенно подобрала подол бархатной модной юбки, Дарьюшка ее узнала – Шурка.
А подруга за это время очень изменилась. И узнала-то ее Даша по знакомому взгляду красивых, немного лисьих глаз – и вроде хитрому, умненькому, но, в тоже время чуть испуганному, чуть в сторону, и вроде голодному. как будто кур воровала, да не поймала ни одной. Но красивой она стала очень – стройная, но с крутой, плотно обтянутой новым полушубком грудью, с нежной, чуть смугловатой кожей юного личика, с длиннющими ресницами узких с поволокой глаз, пухлыми розовыми губками и неровным – немного пятнами горячим румянцем. Колька спрыгнул на жухлую траву, не обращая внимания на то, что сход телеги был прямо напротив здоровенной лужи, пошарил глазами по окнам, как будто кого-то искал, и пошел к калитке. А Шурка, растерянно посмотрела вниз, вся изогнувшись уцепилась рукой за оглоблю и кое-как сползла прямо в лужу. Задрав юбку по колено встала чистыми сапожками в воду, и пошла вперед, макая подолом в грязь.