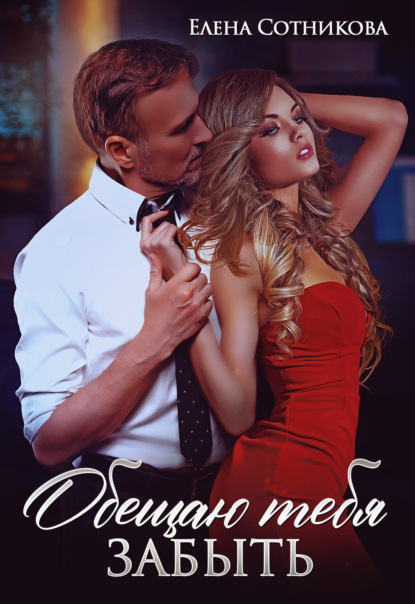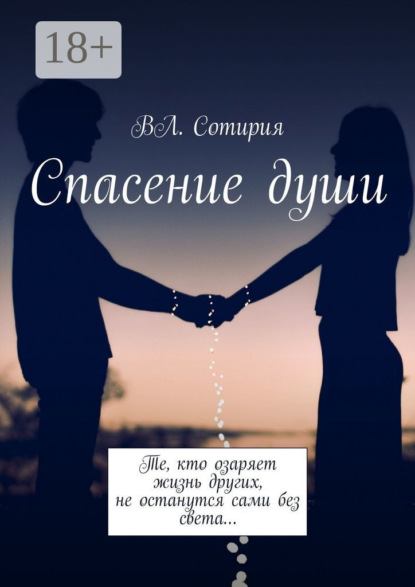- -
- 100%
- +
Несмотря на относительную частоту публикаций в 1980-е годы в самиздате и в 1990-е – в официальной печати, задача текстологически выверенного и максимально полного издания сочинений Аронзона решена не была. Снабженный подробными примечаниями Вл. Эрля и обширной статьей А. Степанова сборник, вышедший в качестве литературного приложения к журналу «Часы» в 1985 году, в силу своего самиздатского происхождения, широкому читателю недоступен. Небольшая книга «Стихотворения», выпущенная Вл. Эрлем в 1990 году в Ленинграде (хотя и основывалась на подлинных авторских рукописях), не претендовала на статус научного издания, а при подготовке двуязычной книги «Смерть бабочки», изданной А. Ровнером и В. Андреевой в 1998 году, – наиболее представительном на сегодняшний день издании – текстологические задачи не ставились.
Настоящее собрание произведений – первое научно подготовленное издание наследия Аронзона. Нашей главной задачей было введение в научный и читательский оборот максимально полного основного собрания поэта в подлинных авторских редакциях. Составители также надеются, что представленный во вступительной статье биографический материал, исследование А. Степанова о поэтике Аронзона, нисколько не утерявшее своей актуальности, а также реальный комментарий в примечаниях помогут познакомиться читателям и специалистам со столь сложным, противоречивым, но в то же время поразительно ярким человеком и поэтом, каким был Леонид Аронзон.
Петр Казарновский, Илья Кукуй«Живое всё одену словом». Заметки о поэтике Леонида Аронзон
Примечание[35]
Когда речь идет о крупном литературном явлении, до сих пор в должной мере, к сожалению, не знакомом широкому читателю, целесообразно сравнить его с явлением намного более известным. И тогда можно сказать, что в 1960-е годы Ленинград дал русской литературе двух наиболее значительных поэтов: Бродского и Аронзона[36].
Успех Бродского в начале 1960-х годов поразителен: вопреки почти полному отсутствию официальных публикаций его имя стало известно многим отнюдь не только в Ленинграде. Восторженная реакция слушателей во время публичных выступлений, множество списков его стихов – характерные черты отношения к Бродскому читателей того времени. Поэзии Аронзона была уготована почти противоположная участь. Хотя и его достаточно тепло принимала аудитория 1960-х, но до популярности Бродского Аронзону было далеко. Их творческая близость продолжалась недолго, сменившись принципиальным расхождением. И это не случайно: трудно представить себе поэтов, чьи эстетические позиции столь противоположны.
Если поэзии 1960-х годов была присуща социальная острота и – как у Бродского – рациональная ясность, то творчеству Аронзона, несмотря на предметную точность, свойственна определенного рода условность. Вне зависимости от объектов непосредственного изображения, в центре внимания автора находится мир собственного сознания, к которому события окружающей жизни прорываются как будто приглушенными, прошедшими сквозь толщу избирательной, трансформирующей работы воображения. В отношении же к реальным предметам преобладает спокойная созерцательность, отчего очертания поэтического мира приобретают сходство с почти застывшим, торжественным пейзажем. Созерцание сопровождается значительным эстетическим переживанием и напряженным вслушиванием в дыхание собственного чувства. Дневной свет, проникающий словно сквозь витражи в пространство искусственного пленэра, кажется каким-то иным, преображенным светом, и тени организуют пространство не меньше, чем свет. Подспудное, подразумеваемое, то, о чем можно только догадаться, является в поэзии Аронзона не менее важным, чем прямое авторское высказывание. Если Бродский живет речью, то Аронзона привлекает то, из чего речь родилась и к чему она по неотвратимым законам существования возвращается вновь. Автора главным образом занимает позиция человека, выпроставшегося из скорлупы истории и повседневности, человека как Адама, пребывающего в предстоящем ему и столь же первозданном, будто только по сотворении, мире. Социальное в подобной поэзии практически отсутствует, а сфера коммуникативного ограничена несколькими собеседниками – адресатами[37]. В дневнике Р. Пуришинской приведена краткая запись одного из разговоров Бродского с Аронзоном, состоявшегося в 1966 году:
«Б: Стихи должны исправлять поступки людей.
А: Нет, они должны в грации стиха передавать грацию мира, безотносительно к поступкам людей.
Б: Ты атеист.
А: Ты примитивно понимаешь Бога. Бог совершил только один поступок – создал мир. Это творчество. И только творчество дает нам диалог с Богом».
Путь Аронзона в искусстве не был легким и стремительным. Период поэтического созревания, включающий освоение предшествующей литературной традиции, продлился примерно до 1964 года. В произведениях этого времени нередки подражания Маяковскому, Лорке, вновь открытым тогда Цветаевой, Пастернаку и др. Однако постепенно всё чаще и всё уверенней автору удается преодолевать вторичность и создавать самобытные тексты, во многом предваряющие его дальнейшую эволюцию (см., например, стихотворения «За голосом твоим, по следу твоему…», «О Господи, помилуй мя…», «Павловск», «Всё стоять на пути одиноко, как столб…», «В лесничестве озёр припадком доброты…», поэму «Вещи» и др.).
Второй период творчества Аронзона, начавшийся в 1964 году, продлился до конца 1967-го. В это время поэтический голос автора приобрел узнаваемую интонацию, сформировался стиль, ориентированный на суггестивное воздействие: созданы такие значительные стихотворения, как «Послание в лечебницу», «Борзая, продолжая зайца…», «Утро», «Гуляя в утреннем пейзаже…», «В поле полем я дышу…», поэмы «Прогулка» и «Сельская идиллия» и многие другие тексты.
С конца 1966 года Аронзон начинает писать сценарии для научно-популярных фильмов. Тексты сценариев встречались на студии весьма одобрительно, принося признание и достаток. Из десятка фильмов, снятых по сценариям Аронзона, два были отмечены первыми дипломами: на зональном фестивале в Киеве (1968) и на фестивале Международной ассоциации научного кино (Дрезден, 1969).
Работа в кино и связанный с нею успех (а также детские стихи, их написано несколько десятков) в известной степени повредили поэтическому творчеству. В 1967 году наблюдается проявление признаков кризиса, появляется запись: «Я сознательно стал писать стихи хуже…» и т. п. (зап. кн. № 6)[38].
Но творческий спад сменяется подъемом. Началом 1968 года можно датировать третий, самый завершенный (и совершенный) период поэтического развития, когда были написаны наиболее известные стихотворения: «Видение Аронзона», «Что явит лот…», «Есть между всем молчание…», «В двух шагах за тобою рассвет…», «Как хорошо в покинутых местах…», а также небольшие по объему, но весьма значимые прозаические произведения: «Ночью пришло письмо от дяди…», «Размышления от десятой ночи сентября» и некоторые другие. В этот период семантическая и эмоциональная емкость стиха возрастает, образуя единое, тематически цельное художественное пространство.
Тексты со стилевыми особенностями третьего периода продолжали появляться до конца жизни поэта, но наряду с ними всё чаще создаются вещи с более последовательным и решительным использованием приемов, свойственных авангарду. Сквозь прежний стиль в ряде поздних произведений проступают контуры «прямоты и ясности», доходящей до профанирующей элементарности; усиливается эпатажность, присущая некоторым стихотворениям Аронзона и ранее. К произведениям этого типа следует отнести цикл «Запись бесед», стихотворение «Когда наступает утро – тогда наступает утро…», однострочия, «Дуплеты», пьесу «Эготомия» и ряд других. По сравнению со многими текстами второго и третьего периодов эти произведения как бы «снижаются»: элементы стиля, свойственные «высокой» поэзии, вытесняются приемами куда более «веселыми», изобретательными. Происходит замена выразительных средств, и путь к сознанию и сердцу читателя прокладывается через удивление – этого одного из основных инструментов авангарда вообще и ряда поздних произведений Аронзона в частности.
Отметим, что авангардизм Аронзона заключался не только в специфически текстовых особенностях его новых стихов, но и в проникновении в их структуру методов других видов искусства. Так, начав в 1966 году заниматься живописью и графикой (сохранились два автопортрета, портреты друзей, множество рисунков, карикатуры), Аронзон создает книгу «AVE», представляющую собой синтетическое литературно-графическое произведение. Зрительный эффект приобретает важное значение и в ряде других текстов. Скорее всего, начинался новый период, которому, однако, было не суждено не только завершиться, но и в достаточной мере определенно обозначить свои черты.
Для всех перечисленных периодов творчества Аронзона характерно как интенсивное обращение к поэтической традиции, так и ее решительное переосмысление. В его стихах нередко присутствуют явное и скрытое цитирование, аллюзии, реминисценции, контаминации, заимствование элементов стиля, подобие интонаций и тропов, перекличка мотивов, принципов поэтического построения. Многочисленны и разнообразны в его произведениях приметы пушкинского присутствия: от проскальзывающих интонаций и подобия отдельных выражений до почти прямого цитирования и даже появления самого Пушкина в качестве персонажа[39].
В не меньшей степени в творчестве Аронзона явственны и следы поэзии Боратынского. Так, лирическому герою стихотворения «Финляндия. Всё время забегают…» нравится «стоять красиво на разбухшем пне и, обратясь глазами к тишине, цитировать „Пиры“ и „Запустенье“». А в одном из вариантов «Размышлений от десятой ночи сентября» есть такая фраза: «Переписываю сюда две строки Боратынского, думая: вот на что уходит моя жизнь:
В тягость роскошь мне твоя,О бессмысленная вечность!»Не менее очевидна связь строки Аронзона «в своей высокой тишине» с выражением Боратынского «душа полна священной тишиной» («Очарованье красоты…»). Также можно отметить сходство оборота «дикая пустыня» («Красавица, богиня, ангел мой…») с «пустыней бытия» Боратынского («О счастии с младенчества тоскуя…») и т. д.
Кроме того, в список литературных источников поэзии Аронзона следует внести Николая Заболоцкого и Велимира Хлебникова, а также Ахматову, Батюшкова, Державина, Веневитинова, Грибоедова, Б. Лившица, О. Мандельштама, А. К. Толстого, Тютчева и др. Из поэтов-современников, помимо Бродского, особенно отметим Станислава Красовицкого.
Подобный ахронизм поэтического ощущения зрелого Аронзона был в значительной степени исторически обусловлен. Поскольку жизнь литературных традиций возможна только при свободном, непрерывающемся развитии искусства, а творческая деятельность поэта пришлась на период, последовавший за неестественным для литературы разрывом, постольку возникла необходимость скорейшего его преодоления. И творчество Аронзона восполнило эту лакуну, как бы повторив в свернутом виде поэтический опыт отчужденного прошлого, освоив его живое дыхание для современников, а читателям будущего дав образец своего рода «концентрированной» поэзии.
Высокая степень освоения Аронзоном литературы прошлого заставляет задать вопрос: всегда ли правомерно говорить о «влияниях», не скрываются ли за этим некая преднамеренность, некий прием? Действительно, тот факт, что в ряде зрелых стихов Аронзона мы без труда узнаём источники тех или иных строк и образов, не только не портит нашего впечатления, но напротив, узнавание явно наращивает семантическое пространство стихотворения, добавляя в его объем еще и заключенный в источнике смысл. В таком случае это позволяет фиксировать не столько «влияния», сколько диалог поэта с искусством прошлого, намеренную адресацию читателя к тем или иным художественным произведениям. Так, в посвященном Хлебникову стихотворении («Запись бесед», III) одна из строк – «И умер сам, к чему рыданья?» – очевидно перекликается со строкой стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта»: «Убит!.. К чему теперь рыданья».
Переклички с поэзией прошлого могут быть куда более тонкими и сложными. Стихотворный шедевр Аронзона «Несчастно как – то в Петербурге…» завершается строками:
Нет, даже ангела перомнельзя писать в такую пору:«Деревья заперты на ключ,но листьев, листьев шум откуда?»О каких деревьях и о каких листьях идет речь? – В предшествующем тексте прямых объяснений мы не находим. Также не удается найти и источник взятых в кавычки, обозначенных как цитата строк – они, очевидно, собственные. При этом наиболее близким аналогом оказывается конец одного из аронзоновских стихотворений («Чтоб себя не разбудить…»):
Иль трескучею свечоюотделясь от тьмы, пишу:«Мокрый сад и пуст и чёрен,но откуда листьев шум?»Присутствующие в нем мотивы смерти, а также его концовка вызывают в памяти лирическое стихотворение Якова Полонского «Могила». В последнем речь идет о том, какое настроение может посетить двух любовников, вечером севших отдыхать под тенью дуба, выросшего на чьейто забытой могиле, а заключительная строка звучит так: «И тёмных листьев шум, задумавшись, поймут». В стихотворении Боратынского «На смерть Гёте» сказано: «И говор древесных листов понимал, И чувствовал трав прозябанье». Стихотворение «Чтоб себя не разбудить…» очевидно перекликается со стихотворениями «Могила» и «На смерть Гёте»; «Несчастно как-то в Петербурге…» явно связано с первым. В результате мы видим источники (а заодно и дополняем смысл) строки «но листьев, листьев шум откуда?». Примененный автором прием прямой речи оказывается, так сказать, «цитированием настроения» – семантическая емкость строки, а вместе с ней и всего стихотворения, возрастает вследствие отсылки читателя к поэзии прошлого.
По всей видимости, в этом разнородном множестве «стихотворных составляющих» было обнаружено то, что их внутренне объединяет, то, что порой называют самой «субстанцией поэзии». Тут потребовались переосмысление природы стиха, глубинные сдвиги в восприятии и репродуцировании традиции. Поэтому трудно не согласиться с Вл. Эрлем, который писал, что для поэтики Аронзона характерно наличие взрываемой, разрушаемой изнутри традиционной основы и эксперименты в области, условно говоря, авангардной поэтики[40]. Уточним лишь, что здесь до поры до времени присутствует не только (а зачастую и не столько) разрушение как таковое, сколько значительная, но не производящая разрывов трансформация, вызванная несомненной новизной поэтического ви́дения. Рассечение традиционной ткани стиха произведено в первую очередь там, где трансформация невозможна.
Если заимствования, позитивные влияния могут осуществляться только по направлению от предшествующих авторов к последующим, то взаимодействие через скрытый «вечносущий поэтический дух» (в данном случае путем конструирования «первопоэзии») не подчиняется власти обычного времени, и тогда последующие поэты могут оказывать влияние на предыдущих. Не это ли имел в виду Аронзон в раннем стихотворении «Каким теперь порадуешь парадом…»:
Каким расподобленьем истинзаполнится мой промысел ночной,когда уже стоят у букинистовмои слова, не сказанные мной[41].В последний период творчества Аронзон прибегает и к новому методу работы с текстами предшественников. Если раньше он стремился более или менее сохранить настроение, «поэтическое содержание» использованных источников, а текст «цитаты» мог быть в значительной мере видоизменен, то в последние годы положение меняется порой на обратное: строительным материалом собственных произведений могут становиться точные (или почти точные) языковые выражения других поэтов, но Аронзон по-своему изменяет их «поэтическое содержание», создавая самобытные центонные конструкции. Так, одно из стихотворений Аронзона зимы 1968–1969 годов – «Из Бальмонта» («Русалку я ласкал…»), включенное в «AVE», – состоит из неизмененных первых строк стихотворений Бальмонта, помещенных в оглавлении книги «Будем как солнце»; другое, «Лесная тьма», образовано аналогичным путем на материале стихотворений Брюсова (использовано оглавление его собрания в Большой серии «Библиотеки поэта»); два стихотворения Аронзона – «День с короткими дождями…» и «Проснулся я: ещё не умер…» – возникли в результате работы с дневниками и записными книжками Блока.
Одной из характерных примет художественного стиля поэта становится перенесение излюбленных образов из одного произведения в другое (ручей рисует имя, на вершине холма на коленях, семяизвержение холма и т. д.), со временем перерастающее в точное цитирование самого себя, причем осознанное не как повторение, а именно как цитирование, ссылка (ср. строки «Записи бесед», IV: «И я восхитился ему стихотворением: – Не куст передо мной, а храм куста в снегу», – со строками стихотворения «Благодарю Тебя за снег…»: «Передо мной не куст, а храм, храм Твоего куста в снегу»). Со своим словом поэт обращается как с чужим, а с чужим как со своим, и поэтический факт обретает надындивидуальную значимость как факт реальный.
Наверное, в сознании всякого автора нет и не может быть глухого барьера между феноменами творчества и реальными событиями его жизни. Не исключение и Аронзон. Свидетели тех уже уходящих в прошлое лет вспоминают, что он был весьма чуток к всевозможным проявлениям поэзии в быту. Так, будучи в Гурзуфе, Аронзон с женой получили из Ленинграда письмо, начинавшееся словами: «Печально как-то в Петербурге без вас…» Фраза превратилась в начало стихотворения «Несчастно как-то в Петербурге…» (причем первоначальный вариант был именно «Печально»). Или, идя как-то со своим другом Альтшулером по залитому солнцем Литейному, Аронзон восхитился: «Боже мой, как всё красиво!» Восклицание вскоре стало строчкой одноименного стихотворения.
В такого рода событиях самих по себе еще нет ничего необычного, и они остались бы общим местом в описании жизнетворчества поэта, если бы не оказались особым образом связаны со спецификой его художественного стиля. Цитирование и трансформация разнообразных бытовых реальных высказываний в произведениях Аронзона, несомненно, перекликается с нередко употребляемым им приемом цитирования и трансформации текстов других авторов. Создается впечатление, что Аронзон почти одинаково относился к реальным и литературным событиям, считая их в равной мере сырьем для творчества. Опыт поэтический и реальный жизненный опыт не только не разграничивались глубокой межой, а наоборот, становились нераздельными. Так, одно из стихотворений 1962 года начинается строками: «Как предлоги сквозь и через лёд извилистых ручьёв»; в стихотворении «Холодный парк и осень целый день…» поэт пишет: «то, в парк спустившись, вижу на воде свои стихи – уснувших лебедей» (здесь и далее курсив мой. – А. С.). В черновиках Аронзона мы встречаем сравнение: «Парк длиною в беседу о русской поэзии». То же может происходить и в метафоре: «Пушкин скачет на коне на пленэр своих элегий» («А. С. Пушкин»). Или из эпиграфа к «Отдельной книге»: «Где бабочки – цитаты из балета»…
Порою поэту кажется, что ничто в мире не могло бы существовать, если бы его не сотворил художник:
Ветра не было б в помине,не звенела бы река,если б Пушкин по равнинена коне б не проскакал.(«А. С. Пушкин»)Одним из излюбленных приемов Аронзона является театрализация литературного действа:
И в отраженьях бытия —потусторонняя реальность,и этой ночи театральностьпревыше, Господи, меня.(«О Господи, помилуй мя…»)Во «Вступлении к поэме „Лебедь“» стихи сравниваются с балетом («Благословен ночей исход в балеты пушкинских стихов»). Театр вторгается в жизнь и в прозе: «Несмотря на то, что мы уже много лет прожили вместе, я только недавно узнал, что самое приятное занятие для неё 〈жены. – А. С.〉 – дарение подарков. Когда она мне сказала об этом, я не только восхитился ею, но и воспринял такую прихоть как самое верное и моё желание, скорее даже как самое счастливое желание, осуществить которое сам я был неспособен. В этой прихоти сказалась не столько доброта, сколько мудрость и опять же умение осязать радость. Получался некоторый театр, спровоцированный подношением, изысканность которого зависела от участников, но простор уже был дан» («Отдельная книга»).
Если нераздельность текстовых и реальных явлений, с одной стороны, способствовала достижению порою пронзительной достоверности текстов, заставляя читателя поверить в реальность плодов литературного вымысла, и заодно позволяла дать наглядно-ощутимое выражение «духовных», иначе трудно уловимых переживаний, то смешение реальности и фантазии[42] в сознании как автора, так и читателя, обладает и теневой стороной. Мир превращается в галлюцинацию, а галлюцинации, материализуясь, без стука входят в открытую дверь существования. Сам характер поэтической реальности – «видение» – способствует этой мучительной пертурбации. Ситуация настолько осложняется, что приходится опасаться за свое психическое здоровье: «Паркет в моей комнате рассыхается, и каждый такой маленький взрыв напрягает меня, потому что в последнее время я непрерывно жду безумия и боюсь его. Пока моя психика здорова, я знаю, что мои галлюцинации не превратятся в плоть и реальным будет только мой страх перед их появлением, когда же придёт безумие, сумасшествие мнимое обретёт плоть, и я увижу это» («Отдельная книга»). Оказывается, литературные игры бывают довольно рискованными: случается, автор даже опасается браться за перо: «Сейчас я бы мог писать, если бы не боялся потерять благо» (зап. кн. № 9, 1968 год).
В неоконченной поэме «Качели» Аронзон писал: «Внутри поэзии самой открыть гармонию природы». Целью художественной деятельности объявляется не пресловутый «выход поэта на арену реальной действительности» или приглашение этой действительности на поэтические страницы, а пристальное вглядывание в саму поэзию для того, чтобы обнажить заключенную в ней гармонию, перекликающуюся со столь зыбкой иногда гармонией реального мира. При этом сближение реальности и словесности оказывается одним из приемов, одной из граней определенного литературного мифа, выражающего непреходящую пигмалионовскую тоску художника.
Присутствие в художественном мире Аронзона конкретных, реальных предметов в определенном смысле приближает литературную действительность к реальной, увеличивая силу воздействия первой на читателя. С другой стороны, широкое использование точных образов реальных предметов в рамках литературной конструкции приводит к тому, что сами эти предметы начинают казаться как никогда условными. И чем более активно поэзия привлекает читателя с помощью образов окружающей его реальности, тем в конечном счете острее ощущается условность уже не столько поэзии (она, наоборот, кажется более реальной), а условность самой реальности, столь тесно переплетенной с фантазией.
Концентрация устойчивых поэтизмов в творчестве Аронзона достаточно высока. Дева (жена), лицо (лик), небо (небеса), Бог (боги), ангел(ы), ручей (река), холм (горы), погода, растения и насекомые, кони и сравнительно немногие другие «многозначные» слова встречаются столь часто, что создается впечатление сжатости авторского словаря. Об этом впечатлении говорят почти все исследователи[43]. Но упомянутая лексическая сжатость вовсе не означает скудости. Напротив, поэтике Аронзона присуще значительное разнообразие отношений между мыслями, образами, словами и эмоциями, разнообразие интонаций. Роскошный «природы дарственный ковёр» в полной мере присутствует в произведениях поэта.
Однако разнообразие является тут скорее всевозможностью способов показать неизреченное одно, дать нам с несомненной отчетливостью его почувствовать. Это одно всегда подразумевается, всегда действительно как равнодействующая множества векторов-усилий – различных, но имеющих общую составляющую. Оно ощутимо буквально в каждом произведении Аронзона. Сам принцип лексической экономии указывает на сгущенность поэтического языка, поэтического содержания. Главное – то, о чем автор умышленно умалчивает, но образ чего для нас несомненен. Остановимся на некоторых, особо важных для поэта концептах.
Ключевое значение молчания, тишины у Аронзона отмечают многие исследователи. Вл. Эрль в статье «Несколько слов о Леониде Аронзоне» утверждает: «Характернейшей чертой мира-пейзажа Аронзона является его полная тишина», – и чуть ниже: «В то же время нельзя сказать, что „мир Леонида Аронзона – тишина“. Поэт часто описывает тишину, но, говоря его же словами, „Не сю, иную тишину“. Иногда эта – „иная тишина“, тишина его мира-пейзажа – определяется поэтом как молчание (ср. раннее: „И долгое молчание кругом“), причем молчание, которое „есть между всем“ и – есть „матерьял для стихотворной сети“»[44].
В свою очередь В. Кривулин на вечере памяти Аронзона 1975 года заметил: «Для себя, внутренне, я определил движение поэзии Аронзона, движение каждого стихотворения, как движение слова к молчанию»; «Бродский говорит всё – мощно, талантливо, Аронзон 〈…〉 за этим всем 〈…〉 имеет еще и движение к молчанию»; «Поэзия Аронзона стремится к пределу, молчанию уже, т. е. 〈…〉 слово становится оболочкой чего-то, о чем можно подозревать только в момент любви» [45].