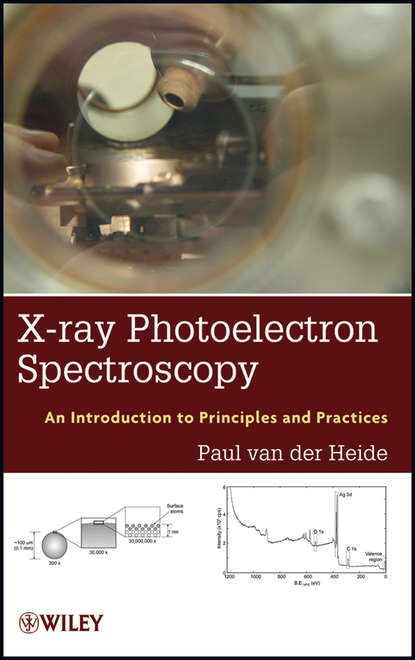- -
- 100%
- +
Молчание, тишина действительно являются важными составляющими произведений поэта: «Есть между всем молчание. Одно…», «Меч о меч – звук. Дерево о дерево – звук. Молчание о молчание – звук…», «Тишина лучше Баха!», «Из собранья пауз я строю слово для тебя…», «слова, во всём подобные молчанью…». Даже сами звуки получают иногда оформление скорее зрительное, пространственное, чем слуховое: «Гудя вкруг собственного у, кружил в траве тяжёлый жук». Но тишина, молчанье, помимо присутствия в непосредственно высказанных поэтических раздумьях, определенным образом причастны всему творчеству Аронзона, будучи активным формообразующим фактором в отношении к интонации, лексике, тропам, композиции – как стихов, так и прозы.
«Мысль изреченная есть ложь»: поиску однозначного соответствия между словом и явлением, отвечающему эстетике ясного, «дневного» смысла, противостоит вариативность, а то и «расплывчатость» значения слова при изображении предметов скрытых, «ночных». Аронзон исходит из явственного ощущения существования таких предметов, и именно это ощущение становится определяющим, тогда как всякое выражение неизбежно представляется приблизительным, обходящим свой предмет по одной из неисчислимо многих касательных. «Передо мной столько интонаций того, что я хочу сказать, что я, не зная, какую из них выбрать, – молчу», – говорит герой прозаической вещи «Ночью пришло письмо от дяди…». Читатель понимает, что автор имеет в виду значительно больше, чем непосредственно высказывает. Временами как раз самое важное вынесено в сферу подразумеваемого. Так, в «Прямой речи» нанизывание афористических изречений на невидимый стержень характеризуется и весьма отличным от классической ясности способом связи отдельных образов (см. также стихотворения «Вступление к поэме „Лебедь“», «Вспыхнул жук, самосожженьем…», «Несчастно как-то в Петербурге…», «То потрепещет, то ничуть…» и др.). Лирически дерзкое сопряжение весьма далеких друг от друга по смыслу (а то по видимости и взаимоисключающих) понятий и слов нередко происходит и в тропах: «свет – это тень», «о тело: солнце, сон, ручей!», «и пахнет небом и вином моя беседа с тростником» и мн. др. Этот принцип порой сравнивают со своеобразным «тоннельным эффектом» в литературе, когда мобилизуются внутренние потенции смысла слов, составляющих фразы, выражения. Подобные «тоннели», интонационные и семантические паузы образуют разветвленную систему, которая, словно катакомбами, скрытно доставляет читателя в различные точки поэтической картины.
Одновременно словом и не-словом, кроме молчания, могут являться: на фонетическом уровне – несловесные звукосочетания (у Аронзона – «ый», «ок», «ны»); на уровне графическом – несловесные знаки, изображения; на уровне семантическом – слово намеренно обессмысленное, помещенное в инородный контекст, и т. п. Но молчание – единственное (из приведенных возможностей) не принадлежит никакой самостоятельной стихии, отличной от стихии литературы (ни звуковой, ни изобразительной, ни смысловой, ни реальной, ни предметной). Хотя, поскольку литературный акт имеет различные аспекты (фонетический, семантический, графический и т. д.), постольку его истоки в определенной мере причастны тишине как необходимому логическому условию речения. А стало быть, литературный акт в известной степени связан с бессмыслицей, организующей структуры особого смысла; белым (варианты: черным, цветным) полем, на котором появляется изображение; бездействием, предшествующим стадии активности.
Разумеется, здесь имеется в виду не просто отсутствие речи, а молчание, порождающее слово, молчание, напряженной интенцией которого является слово, молчание как предел «сгущения», «свертывания» слов, молчание, которое представляет собой «я есмь» слова. Тогда слово – инобытие молчания, другая его сторона, как и молчание – инобытие слова. Слово рождается из молчания, сохраняет его суть и иногда к нему возвращается. Залог действенности слова, т. е. его способности влиять на отличные от него реальности, заключается в том, что оно – не только конкретный факт письма, речи, но одновременно и не-слово. Слово – предикат особого субъекта, его глагол.
Важная роль молчания в текстах Аронзона отражена и в специфике применяемых версификаторских приемов. В стихотворении 1964 года «Паузы» Аронзон попытался создать художественную реальность, обойдясь вовсе без слов, – он определенным образом заполнил белый лист знаками «Ч» и тем самым сделал значимыми промежутки. Припомнив «Поэму конца» Василиска Гнедова, состоящую из названия и следующего за ним чистого листа, пустые страницы Лоренса Стерна в «Тристраме Шенди» или «Белое на белом» Малевича, мы понимаем направление авторского эксперимента (впрочем, в очередной раз убедившись, что поэтическое молчание нередко удается передать отчетливей, не избегая помощи слов).
В стихотворении «Пустой сонет» также используется выразительная сила «белого поля» как изобразительного аналога молчания – текст размещен в виде сходящейся спирали. Поэтическое впечатление от стихотворения подкрепляется физическим ощущением головокружения, возникающим при вращении перед глазами листа, текст сходится к центру, пока не упирается в прямоугольник незаполненного пространства.
Переживание слитности молчания с нетронутой белизной было присуще Аронзону и на более ранних этапах (ср. «там в немых зеркалах, одинаковых снежным покоем» – «Ночь в Юкках»), однако в последние годы оно становится более явственным и чаще находит адекватное поэтическое выражение.
Вплотную подведя словесность к ее внеязыковым истокам, Аронзон реставрирует синкретизм слова и изображения. Линии, размеры, фигуры, формы вторгаются в его поэзию, повышая роль чисто графических элементов стиха (это относится, главным образом, к четвертому периоду – отметим, в первую очередь, книгу «AVE»). В «Записи бесед» исключительно значимо размещение текста на странице. В стихотворении «Когда наступает утро – тогда наступает утро…» автор то отказывается от горизонтальной строки, заменяя ее «волной», то размеры шрифта постепенно уменьшаются от начала к концу, то строки объединены в «трехэтажный», как у Ильязда, стих. В дружеском послании «Сонет ко дню воскрешения Михнова Евгения» текст размещен по линии, вырисовывающей контур бутылки, а на свободном центральном поле помещается шуточное изображение Михнова.
Разумеется, не случайно творческий путь Аронзона прошел через область поэтического молчания. Присущий автору пафос сближения литературной и реальной действительности накладывает на художественное слово обязательство определенным образом реализоваться, в какомто смысле стать полноправным элементом реального мира, т. е. стать одновременно и не-словом, не только словом. Таким образом, к коренным особенностям поэтики Аронзона относятся как высокая ценность поэтического молчания, так и вторжение в его поэзию инородных элементов, в частности, изобразительного искусства.
Художественное слово у Аронзона, помимо особенной причастности поэтическому молчанию, обладает и соответствующими темпоральными характеристиками. «Твоё мгновенье – вечность», – пишет поэт в одном из стихотворений; «И какая это радость – день и вечность перепутать!» – вторят ему строки стихотворения «Ещё в утренних туманах…». А. Альтшулер на вечере памяти Аронзона справедливо заметил: «Для него существовал в общем-то один день, и этот один день раскрывался как бутон цветка»[46]. И действительно, высшие, самые подлинные проявления существования проходят для Аронзона sub specie aeternitatis – под знаком вечности. В «Отдельной книге» читаем: «Так наша жизнь превратилась в фотографию, которая никогда не станет достоянием семейного альбома». Поэтическое представление каждого из композиционных фрагментов поэмы «Вещи» по-прустовски очень подробно, замедленно; время кажется загустевшим, как струя смолы или меда. Чтение такой почти лишенной динамики «Вещи» оказалось бы унылым занятием, если бы чувство меры не заставляло автора всякий раз вовремя сменить изобразительный план. Причем эти смены подчинены вовсе не реальной хронологии, согласуясь только с собственными задачами текста. В короткий отрезок времени мы можем увидеть происходящее в самые различные периоды; очертания времени становятся менее всего похожими на линейную длительность, а обретают объемность пространства со своеобразной художественной топологией. Действие поэмы происходит ночью в рассеянном лунном свете – всё это обеспечивает необычное, будто бы «сдвинутое» восприятие: «я каждый разобрал предмет, и в каждом опознал приметы особой жизни».
Совмещение в произведениях Аронзона достижений поэзии различных эпох (прошлого и настоящего), его обращение в поздний период к предельно лаконичному тексту (дву- и одностишиям), использование выразительной силы пространственной организации литературного материала (текстуально-графические композиции) представляют собой характерные приемы преодоления «хронологического» восприятия литературного текста. Известный факт: нередко стихотворения у поэтов рождаются из одной-двух строчек, а то и из приглянувшегося словесного оборота. При этом «зародыш» стихотворения уже распознается автором как поэзия, которую в дальнейшем следует лишь «развернуть», развить. А не может ли возникнуть обратная задача – «сворачивания» стихотворения: сжать текст так, чтобы поэзия в нем все-таки сохранилась, обнаружив тем самым текстуально-поэтическую единицу? В последний, четвертый, период творчества (и в текстах, тяготеющих к этому периоду) Аронзон пишет дуплеты, однострочия и производит даже разложение слов:
Страх! Трах! Рах! Ах! х! ТрёмсмертьСмерть мерть ерть рть ть ьМожно предположить, что в подобного рода текстах Аронзон пытается добраться уже до атомарной сути стиха, и остается только сожалеть, что четвертому периоду не удалось завершиться. Экспериментируя, Аронзон сталкивает верлибр с рифмованным стихом («Запись бесед»), пишет тексты, представляющие собой «наборы стихов-рифм»: «Шуты красоты», «Здания трепетания», «Сучность сущности», «Notre-Dame создам», «Рабочий ночи», «Тишина вышины» («AVE»), – создает и другие стихотворения, столь же мало напоминающие традиционные (например, «Держась за ствол фонтана…»).
Во многих произведениях Аронзона читатель отчетливо ощущает присутствие вневременной действительности. Как уже отмечалось выше, это ахроническое ядро находит проявление в выразительной силе умолчаний, а также в такой системе ценностей поэтического мира, которая выдержала испытание временем. Интенсивность эстетического переживания у Аронзона также способствует их ориентации на «вечность». Однако при этом творчество поэта вовсе не оказывается надмирным, оторванным от непосредственно воспринимаемого разнообразия и богатства действительности. Напротив, эмоциональный, предметный и стилистический диапазоны автора, несомненно, широки. Стремление к реальному совмещению в творчестве черт ускользающего и незыблемого (вследствие алогичности подобного совмещения) приводит к суггестивности выражения. А одним из темпоральных залогов оказывается сложная иерархическая картина различных переплетающихся ритмов.
Ритм в поэзии предполагает гармоническое движение, в которое вовлекаются как звуки (и обозначающие их буквы), слова, стопы, строки, строфы, так и родственные по смыслу понятия, темы, образы, иногда объединяющие несколько произведений. Ритм проявляется также в повторах, перекличках. Все эти возможности динамики активно используются Аронзоном. Например, в стихотворении «Утро» (1966), состоящем из 21 строки, слово «холм» повторено 10 раз (причем шестикратно на концах строк), «вершина» – 8 раз, «дитя-детей-младенец» – 8 раз; звучат как рефрен ударные строки «Это память о рае 〈вар.: Боге〉 венчает вершину лесного холма!»; варьируются одни и те же предложения. В этих повторениях рождается новый смысл. Ритмы и их вариации в некоторых произведениях становятся едва ли не основными выразительными средствами (почти минуя семантику) – см., например, стихотворение «Кто слышит ля-ля-ля-ля…».
В «Записи бесед» интонационно – синтаксическая организация полифонична и вариативна. Особенно интересный пример артикуляции семантических ритмов представляет собой вторая часть. Она начинается с варьирующегося «зацикливания», едва ли не бессмысленного и странного бормотания, обращающего читателя к бессознательному восприятию (бессознательность подчеркнута скобками, в которые взяты соответствующие строки). Но это вязкое бормотание прерывается пронзительным стихом: «или вырыть дыру в небе», после которого читатель возвращается к настойчивому повтору: не то, не то, …, то, то. Затем в цикл неожиданно вторгаются два варианта одного впечатления, мысли (строки 9–12). После них поэт избирает контрастный тон: длинные перетекающие, изысканные по содержанию строки. Но вот «странность» речи возрастает (строка 17), возвращаются интонации начала стихотворения и как следствие – новый повтор (строка 18). Стихотворение завершается активным, уже не варьирующимся повтором «странной строки», напоминающим возвраты патефонной иглы на деформированной пластинке, и это не только останавливает ход стихотворения, но и замыкает конец на начало. Общее впечатление от стихотворения – помимо несколько необычной, невыразимой бессознательности – это впечатление весьма высокой содержательной емкости и явственного, иногда изысканного, иногда томительного эстетического переживания.
Достоинства «Пустого сонета» также во многом обязаны выразительной силе повторов (лексических, семантических и фонетических) и их вариаций. Начинаясь с вопросительной заставки-восклицания, это стихотворение далее становится весьма «певучим», непрерывно развиваясь и организуя циклы (так катится колесо по дороге), но под конец строки укорачиваются, интонация превращается в более отрывистую, движение замедляется и прекращается, будто натолкнувшись на преграду или достигнув цели, и эта остановка подтверждается повтором в последней строке «стояли – стоят» – в строке, которая подчеркивает центральную роль адресата послания.
Подобные повторы демонстрируют особенное отношение к времени в творчестве Аронзона, определенным образом связанное с темой отражения. Прозаическая вещь «В кресле», начинающаяся стремительными, будто задыхающимися в спешке, набегающими друг на друга импрессионистическими фразами, постепенно замедляется, обретает многозначительную психологическую загадочность, переходит к обобщениям едва ли не философским и, наконец, заканчивается фразой: «Зеркала стояли vis-а-vis, и этого оказалось достаточно, чтобы увидеть прекращение времени». В экспозиции неоконченной поэмы «Зеркала» мы встречаем такие строки: «По кругу зеркала, пустынный сад, длиннеющая тень из-за угла и полудужье солнца за рекой, всё неподвижно, сонно, всё – покой. Не шевелятся листья, всё молчит, как будто время больше не стучит, как будто совершился Божий суд и мир – фотографический этюд». В двух монологах той же поэмы упоминаются двойники, людское подобие Господу («Господь нас создал копией, увы!»), зеркала названы «высшими, будущими, засмертными, пустыми», встречается призыв: «Бегите голубеющих зеркал, заройтесь в одеяло с головой!» Зеркала и покой, неподвижность, завершение времен оказываются связанными, а тема подобия, отраженности сопряжена с эсхатологическим восприятием.
Мотив подобия, отражения относится к числу ведущих в художественной действительности Аронзона. Зеркала, двойники, положение vis-а-vis, отражения садов, небес, облаков, а то и самой Троицы в озерах и реках – участники многих его произведений разных периодов; переживание подобия различных предметов друг другу в мире – видйнии, превращения одного в другое становятся одним из существенных переживаний поэта. «Дерево с ночью и с деревом ночь рядом стоят, повторившись точьв-точь», – писал Аронзон в стихотворении «Тело жены – от весны до весны…», а в цикле «Дуплеты»: «Кто-то, видя это утро, себя с берёзой перепутал», «Изменяясь каждый миг, я всему вокруг двойник!»
Возможность превращений лишает человека устойчивости бытия («А я становился то тем, то этим, то тем, то этим» – «Запись бесед», VI), и нередко такая ситуация воспринимается как мучительная. Художника беспокоит, что даже любимая женщина может превратиться в нечто иное: «Иногда я ждал, что она окажется оборотнем и прижимался к её телу, чтобы быстрее совершилось страшное» («Отдельная книга»). Близость метаморфозы кажется реальной опасностью.
Мотивы подобия и отражения присущи и композиционной структуре ряда текстов Аронзона. Так, начиная с 1966 года, большое число черновиков буквально испещрено перевертышами, в которых соединятся, станут «одним и тем же» слова, выражения и их зеркальные отражения. Такие композиции мы встречаем и в книге «AVE».
Мотив отражения у Аронзона тесно переплетается с образами природы, мотивами одиночества, смерти. Поэт ощущал одиночество, покинутость везде: среди друзей («Своя на всё печаль во мне: вечерний сижу один…» – «Нас всех по пальцам перечесть»), с женой («Иногда её близость не только не отделяла от одиночества и страха, но ещё более усугубляла и то и другое» – «Отдельная книга»), в вымышленном раю («двуречье одиночества и одиночества» – «Запись бесед», I). Безлюдье типично и для поэтических пейзажей Аронзона.
Расщепление реальности на то, что пребывает в потаенных пластах сознания, и на то, что воплощено в произведении, может привести даже к переживанию своеобразного чувства вины. Экзистенциальная тревога выражается в новых произведениях, но ощущение того, что «что-то не так», не оставляет, настоятельно требуя более радикального разрешения возникшей проблемы. Порой художника даже посещают мысли об искуплении (ср. примеры Гоголя и Толстого). Ситуация обретает трагический характер. Поэт может оставить литературное творчество (Красовицкий, дилемма Боратынского) или принять другое, еще более драматическое решение… В любом случае на судьбе настоящего поэта лежит определенный отпечаток несчастья (ср. высказывание самого Аронзона: «Есть наказание, которое очевидно, заметно, и которое не очевидно, незаметно для наказуемого. – Я счастлив избранностью своего несчастья»).
Тот факт, что элементами художественной действительности Аронзона на равных правах являются не только литературные отражения некоторых реальных чувств, событий, но и преображение образов предшествующей поэзии (отражения отражений), обусловил своего рода взаимозаменяемость реальности и литературы, которые в равной мере становятся объектами ви́дения лирического сознания. При этом ориентация в экзистенциальной проблематике человеческой жизни оказывается неотрывной от разрешения сугубо художественных коллизий.
Эстетическая позиция Аронзона накладывает яркий отпечаток и на его любовную лирику. В стихотворении 1969 года «На стене полно теней…» автор послания неожиданно просыпается среди ночи, разбуженный внезапным, напряженным вопросом: «Жизнь дана, что делать с ней?» Заочное путешествие по раю не только не в состоянии дать ответ на мучительный вопрос, но и увеличивает силу вопрошания. В объективном существовании поэта всё, вроде, идет своим чередом (строки 9–10), но тем не менее какой-то властный толчок заставляет проснуться: «Жизнь дана, что делать с ней?» Следующие две строки (13–14) зеркально повторяют предыдущие, как бы останавливая, подводя итог тревожному состоянию сознания, для которого, как кажется, нет небанального разрешения (сколь фальшиво прозвучала бы тут любая сентенция), но единственно возможный выход прост: «О жена моя, воочью ты прекрасна, как во сне!» Вопрос о смысле жизни, вообще говоря, не имеющий удовлетворительных ответов в рациональной плоскости, обретает ответ на эстетическом уровне, и автор предъявляет нам механику преодоления экзистенциального конфликта через чувство сопричастности красоте в ее конкретном, личном воплощении, когда подсвеченная эротикой красота жены оказывается средством преодоления угрозы бытия.
Жена, Рита Моисеевна Пуришинская, – лирический объект и адресат многих возвышенных произведений Аронзона. Духовная близость с ней, человеком эстетически и жизненно одаренным, была, без сомнения, наибольшей удачей в жизни Аронзона. Главным для нее была любовь к мужу и преданность его делу. Во многом благодаря близости их отношений в поэзии Аронзона появилась внушительная серия столь редких в современной литературе «семейно-лирических» стихотворений. По свидетельству близких, значительная напряженность жизни Аронзона поддерживалась ощущением счастья. Чего стоят одни только обращения к жене: «Красавица, богиня, ангел мой!» или: «Семирамида или Клеопатра – все рядом с ней вокзальные кокотки, не смыслящие в небе и в грехах!» («Глупец, ты в дом мой не вошёл…»).
Нужно отметить, что любовная лирика Аронзона отнюдь не лишена эротического начала, соответствующие образы выступают в ней в достаточно отчетливом, не прикрытом эвфемизмами виде (см. «Два одинаковых сонета»). Эрос земной и эрос небесный, переплетаясь, вносят в поэзию Аронзона особый, неповторимый оттенок, с одной стороны, придающий земную существенность платоническим чувствам, а с другой – убедительно поэтизируя феномены плотской любви[47]. В «Отдельной книге» мы встречаем такое симптоматическое высказывание: «Моя жена напоминала античные идеалы, но её красота была деформирована удобно для общения, что отличало красоту эту от демонстрации совершенства». Исходя из потребности коммуникации, автор, остро ощущая собственную личность, обнаруживает лицо и в тех предметах, которые принято считать безличными. «Всё – лицо: лицо – лицо, пыль – лицо, слова – лицо», – пишет он в одноименном стихотворении 1969 года; «Но ты к лицу пейзажу гор», – подтверждает стихотворение «Вторая, третия печаль…». Вообще лицо, лик относятся к одним из наиболее излюбленных слов поэта.
Эстетическое, будучи определенным образом причастным вневременному плану действительности, подает автору надежду преодолеть с его помощью конечность земных сроков, но ахронизм поэтического мироощущения препятствует его использованию в качестве инструмента разрешения жизненных коллизий. Аронзон и здесь вносит свои поправки. В «Отдельной книге» читаем: «Она была так прекрасна, что я заочно любил её старость, которая превратится в умирание прекрасного, а значит не нарушит его». Акцент весьма важен: прекрасное, хотя само и неподвластно гибели, может участвовать в процессе умирания.
Однако по мере освоения области прекрасного выясняется, что оно вызывает у художника вовсе не только светлые чувства. Так, одно из стихотворений 1963 года начинается следующими строками: «Не подарок краса мне твоя, а скорей наказанье, и скорее проклятье, чем лето, осинник, озёра». Что-то в человеке препятствует его восприятию прекрасного, приходит усталость, опустошение. В стихотворении «Боже мой, как всё красиво…» Аронзон пишет: «Нет в прекрасном перерыва. Отвернуться б – но куда?» В других стихах мы встречаем такие строки: «даже неба красота мне насквозь осточертела». Поэт испытывает облегчение, когда напряженность эстетического переживания спадает: «Я смотрю, но прекрасного нет, только тихо и радостно рядом» («В двух шагах за тобою рассвет…»).
Быть может, нет ничего странного в том, что в процессе эстетического переживания, помимо различения в красоте ее земных, личностных черт, Аронзон столкнулся с фактом ее известной обезличенности. Разгадка этого, возможно, заключена в амбивалентности чувства земной любви, сквозь призму которого поэт воспринимает прекрасное. Предмет любви обретает черты сравнимости, совместимости с другими (тоже по-своему уникальными) предметами. «Люблю тебя, мою жену, Лауру, Хлою, Маргариту, вмещённых в женщину одну», – писал Аронзон в стихотворении «Вторая, третия печаль…». В «Сонете в Игарку» говорится, что в природе «есть леса, но нету древа, оно – в садах небытия», т. е. в природе торжествует родовое начало, а поскольку природа представляет собой «подстрочник с язы́ков неба», то и на небесах родовому, общему отведено значительное место. Поэтому не удивительно, что Орфей воспевает по сути не самоё Эвридику, в которой видел отблеск небес, а Еву.
Таким образом в эстетическом переживании обнаруживается определенная угроза существованию индивида, и тогда оказывается оправдан протест против эстетизации. Мало того, бунт против нее становится необходимым условием ее неформального приятия человеческим сознанием. Художественная действительность в эстетическом освещении должна включать в себя и тени («безобразное»), чтобы поэт и читатель получили возможность ощутить ее достоверность, почувствовать ее близкой и «своей», а не чуждой. Это обстоятельство не могло не сказаться на поэтическом стиле автора, в частности, на использовании им выразительной силы «низкого».
Одним из способов преодоления враждебности, заключенной в эстетическом переживании, на который хотелось бы указать, является – в особенности в последние годы творчества Аронзона – явная тенденция к упрощению стиля. Поэт практически отказывается от сложных, многоуровневых образов, стихотворения приобретают черты максимальной лирической открытости, способ выражения приближается к классической ясности. Автор обретает более чистый, более трезвый взгляд на существующие в мире отношения, вступая в новую, отвечающую зрелому возрасту фазу развития. Иногда создается впечатление, что для поэта становятся особенно важны прямые, обыденные значения слов; словарь частично утрачивает многозначительную «расплывчатость» (см., например, стихотворения «Благодарю тебя за снег…», «В двух шагах за тобою рассвет…»).