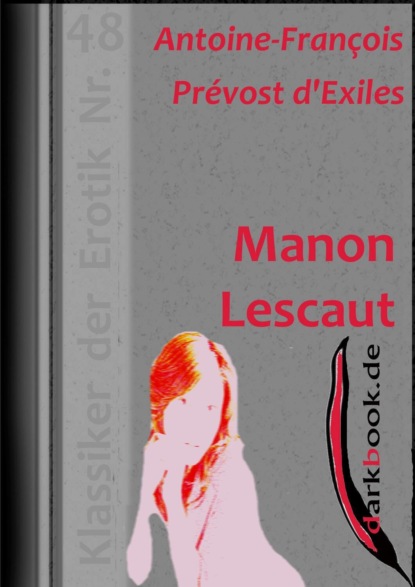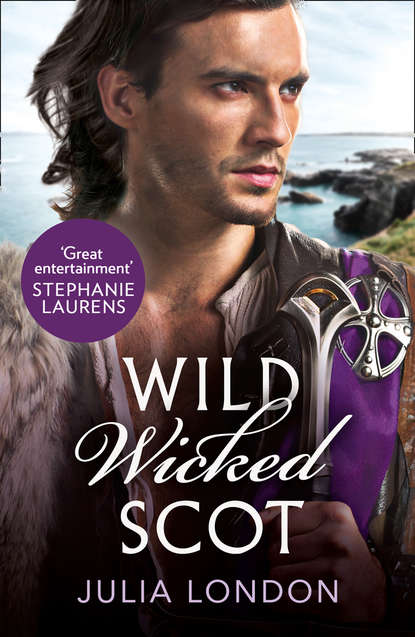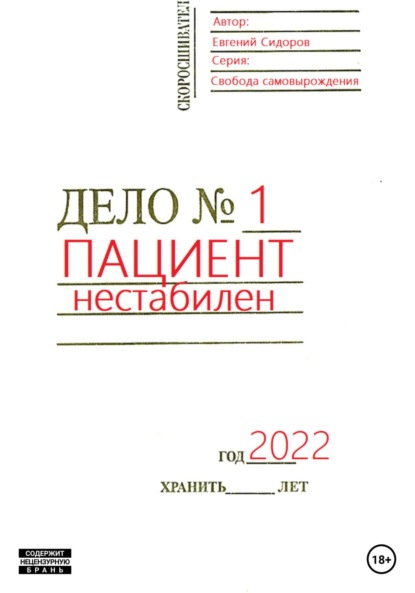- -
- 100%
- +
29
Заголовок «Стенарии» мы находим на обложке одной из папок для бумаг.
30
См.: «Условия страны лишали меня оплаты за то, чем я удовлетворял свою потребность трудиться, и вынуждали заниматься промыслом, который был мне отвратителен» («Сегодня был такой день…»).
31
См. отражение этих событий в примыкающем к «Школьной антологии» стихотворении И. Бродского «Здесь жил Швейгольц…»; Швейгольц послужил одним из прототипов Шведова, героя повести Б. Иванова «Подонок» (1968).
32
Считаем нужным привести мнение Анри Волохонского, записанное по нашей просьбе:
Миф о поэте
Поэт в России – создание чрезвычайное. При жизни он, разумеется, гениален, дружит с цветами и ангелами и при этом скорбит. Смерть же поэта должна быть трагическая. Таким и был Леонид Аронзон в глазах его ближайшего окружения.
Эта картина не вызывает возражений с моей стороны за исключением одной малой подробности. Я не думаю, что его жизнь была прервана самоубийством. Выстрелить себе дробью в печень – что может быть нелепее? Нет, то была неосторожность, ее правильно было бы назвать «несчастный случай». Разумеется, такое предположение портит картину, которую рисуют близкие. Но мне дорог не портрет Леонида, выписанный по правилам местной мифологии, для меня важнее его истинная судьба.
В последний раз мы встретились в Петербурге на улице, недалеко от Владимирского собора летом 1970 года. Это было незадолго до его отъезда в Среднюю Азию. Поговорили, посидели на скамейке. Лицо Леонида странно светилось, а когда солнце скрылось за тучами, вдруг засияла его золотая борода и над ней голубые глаза, почему-то огромные. Ничего значительного мы тогда, естественно, друг другу не сказали.
17.07.1997
33
См.с. 217 и 218 наст. изд.
34
Имя Е. Шварц, проживавшей в СССР, в книге во избежание неприятностей не было указано.
35
Статья является сокращенной и переработанной для наст. изд. работой, опубликованной в 1985 году в сборнике «Памяти Леонида Аронзона», с. 8–97.
36
Спустя три десятилетия один из современников поэта вспоминал: «Сейчас многим кажется, будто в 1960–1970-е годы у Иосифа Бродского не было достойных соперников. На самом деле в Ленинграде той поры существовало несколько центров притяжения поклонников поэзии, и круг «бродскианцев» не был самым влиятельным, а лидерство будущего нобелевского лауреата не без успеха оспаривалось несколькими поэтами, принадлежавшими к тому же литературному поколению и воспитанными в той же ситуации противостояния официальной советской культуре, что и Иосиф Бродский. Пожалуй, наиболее радикальной альтернативой „ахматовским сиротам“ был Леонид Аронзон. Его считали бесспорно гениальным, его ненавидели, перед ним преклонялись». (Кривулин В. Леонид Аронзон – соперник Иосифа Бродского. С. 152–153).
37
Можно сказать, что до середины 1960-х годов кругом общения во многом определялись и эстетические пристрастия Аронзона: в годы учебы он знакомится с поэтами Александром Альтшулером (ставшим его ближайшим другом), Иосифом Бродским, Анри Волохонским, Леонидом Ентиным, Анатолием Найманом, Евгением Рейном, Алексеем Хвостенко, прозаиком Владимиром Швейгольцем. Позднее Аронзон сближается с Андреем Гайворонским, Виктором Кривулиным, Дмитрием Макриновым, Александром Мироновым, Виктором Ширали, Владимиром Эрлем; возникает дружба с художником Евгением Михновым-Войтенко. Многие из названных имен вынесены в посвящения стихов Аронзона, упоминаются в его записных книжках (см. примеч. 4) и дневниках Риты Пуришинской.
38
По меньшей мере с 1964 года Аронзон ведет записные книжки, являющиеся своеобразным творческим дневником поэта (их перечень см.: т. 2, с. 293 наст. изд.). В настоящее время записные книжки готовятся к публикации. Примеч. сост.
39
См. стихотворения «Поле снега. Солнцеснег…», «Вода в садах, сады – в воде…», «Проснулся я: ещё не умер…», пьесу «Действующие лица» и др. Пушкинские аллюзии очевидны в строках «Есть лёгкий дар, как будто во второй счастливый раз он повторяет опыт» («Сонет душе и трупу Н. Заболоцкого») или в строке «Случалось, Феб промчится мимо нас» (магистрал неоконченного венка сонетов «Календарь августа»). Ср. также образ «пчела, в поля летящая за данью» в стихотворении Аронзона «Я и природу разлюбил…» с пушкинским «пчела за данью полевой».
40
См.: Эрль Вл. Несколько слов о Леониде Аронзоне. С. 214–226.
41
См. также зап. кн. № 6 (1967 год): «Пушкин влиял на Державина, Ломоносова и пр.».
42
Ср.: «Однако, – сказал дядя, – если Бог явит себя, то я не знал большего счастья, чем любить его, потому что здесь не угадаешь, что реальность, что фантазия» («Ночью пришло письмо от дяди…»).
43
См.: Альтшулер А. Заметки и записи об Аронзоне; Андреева В. В «малом круге» поэзии; Топчиев Р. Леонид Аронзон: Память о рае; Шварц Е. Статья об Аронзоне в одном действии; Эрль Вл. Несколько слов о Леониде Аронзоне, и др.
44
Эрль Вл. Несколько слов о Леониде Аронзоне. С. 222.
45
Вечер памяти Леонида Аронзона: К пятилетию со дня смерти. 18 окт. 1975. [Стенограмма] // Журнал 37. № 12. Л., 1977. С. 43–45.
46
Вечер памяти Леонида Аронзона. С. 49.
47
Например: «Всюду голая Юнона» («Хорошо гулять по небу…»); «где дева, ждущая греха, лежит натурщицей стиха» («Вступление к поэме „Лебедь“»); «с до ломоты набухнувших яичек перевожу я Данте без труда» («Развратом развращён, кишечником страдая…») и мн. др.
48
Причем каждая из строчек означенных стихотворений по сути названа «нотой», ибо несколько «возвратно-семеричных» текстов, помещенных на одной странице, объединены общей «подрисуночной» подписью: «сидят ламы играют гаммы».
49
Шварц Е. Статья об Аронзоне в одном действии. С. 230.