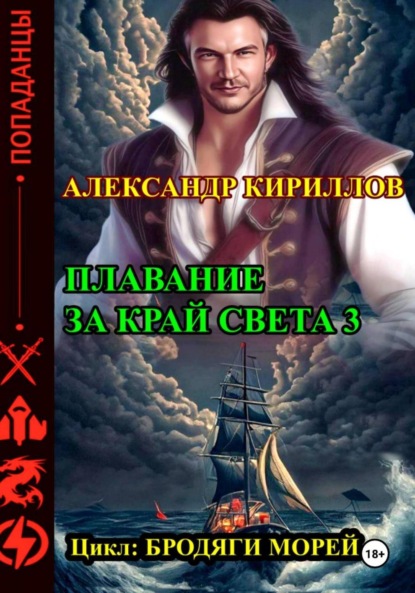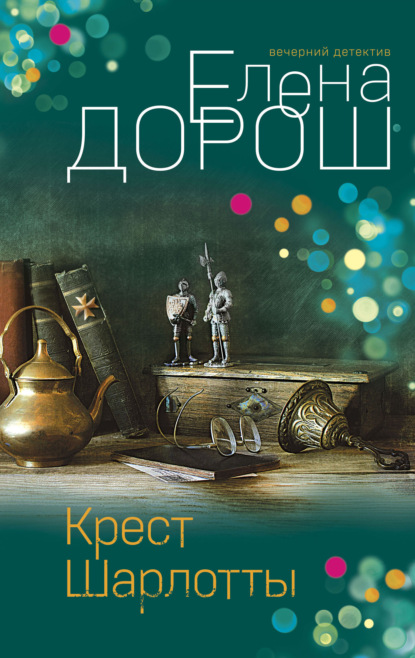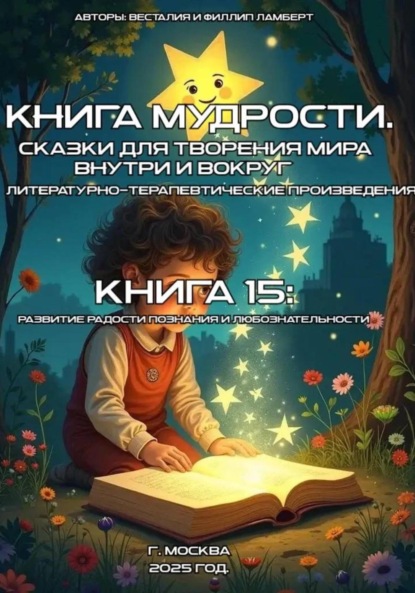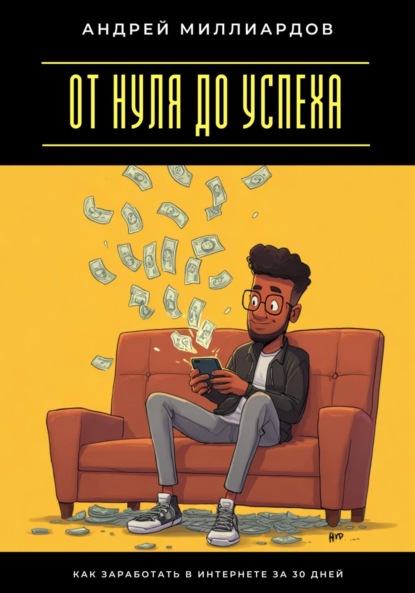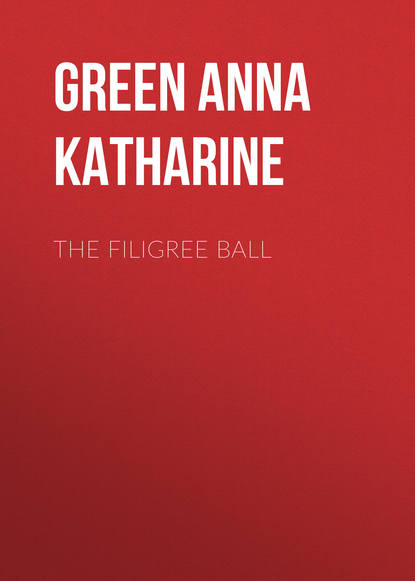- -
- 100%
- +
В Адмиралтейств-коллегии господа проверяющие держали ответ перед Сечиным:
– Господин адмирал, к работам не подкопаешься, любая проверка выявит их выполнение.
– Всё это ерунда. Вы обязаны были сделать то, что я вам приказал.
– Михайлов уволен из российского флота.
– Отлично, это хороший результат. А что с судами?
– Суда – это частные корабли, принадлежащие торговому товариществу, поэтому здесь мы не имели никаких рычагов воздействия. Правда, мы с контр-адмиралом Дащевым запретили служить на них казённым матросам.
– Отменно. Всё правильно сделали!
– Всё не так просто, ваше высокопревосходительство. Командующий Азовской флотилией Покидов в конфиденциальной беседе сообщил, что Михайлов является личным другом императрицы и объявил нас иностранными шпионами, которые разрушают флот.
– Что значит – обвинил вас?
– А то и значит, ваше высокопревосходительство, что именно об этом он будет докладывать императрице при личной встрече. Он очень богатый помещик, имеющий мануфактуры и десятки тысяч крепостных. У нас создалось мнение, что ему вообще наплевать на наши адмиральские погоны. Так что тут не он, а мы можем потерять их.
– Значит, не так прост этот Михайлов. Хорошо, поглядим на его службу и найдём, как его прижать.
– Он уже не служит во флоте.
– Ах ты, чёрт. Ладно, сообщу господину Локарту, это управляющий британской "Московской торговой компании", что мы приняли все возможные меры.
Наши корабли возвращались домой, находясь где-то в районе будущего Адлера, когда со стороны Керчи появились две греческие галеры. Мы проходили довольно близко друг от друга, отчего я взял рупор и прокричал приветствие. Мне ответил капитан, а я снова проорал ему:
– Откуда идёте?
– С Ене-Кале и Кафы. Я там веду торговлю.
– А в Таганрог ходите?
– Нет, там другие купцы торговыми делами заправляют.
– Тогда счастливого пути. Кораблёв, запомни эти галеры. Если капитан меня обманул…
– Мы его утопим при встрече?
– Точно, Дмитрий!
А вот в Азовском море расстреляли «итальянца», забрав груз, а выживших матросов, как и саму галеру, пустили на дно. За этот год наши суда утопили три иностранные посудины. Вендетта, однако!
Из-за событий этого года Товарищество упорядочило владение судами, выплатив командам их долю. Теперь корабли принадлежали только членам «Таганьего рога».
Глава 2. Плавание за край света
Город празднично встретил новый 1765 год. У меня появился арабский наследник, которого требовалось показать его деду, Асад-шейху. Правда, пришлось урезонить Анну: «Анна, пусть малыш подрастёт, а то в прошлом плавании детский плач «достал» всех на корабле, а вместо парусов на гафелях детские пелёнки висели. Виктория напишет твой портрет с сыном, а я доставлю его твоему отцу».
Всю зиму и весну шла подготовка к очередному далёкому рейсу. С апреля галеры и челны уже резво бегали по Дону и Азовскому морю, развозя заказы. По теплу с товаром из Малой Азии, Сирии и Леванта прибыли турецкие суда, а с севера – отечественные купцы. Так что с апреля торговые операции были в полном разгаре.
В этом году я собирался совершить пару важных дел. Первое – Зорин приступил к строительству школы и большого многопрофильного ремесленного училища, при котором будут общежития, библиотека, столовая и баня. Плотно работая с Ольгой Семёновой и её отделом культуры и образования при градоначальстве, запланировали годичный курс обучения. В первом семестре слушатели освоят общеобразовательные знания, а во втором будут учиться работать руками по профессии, получив на выходе диплом о ремесленном образовании. Тех, кто захочет продолжить обучение, ожидают ещё три учебных года по расширенной, практически университетской программе, но с большой долей практики на моих предприятиях. Из факультетов решили открыть морской, механический, металлургический, строительный и медицинский. Кроме этого будут организованы курсы и оборудованы учебные классы для подготовки приказчиков, кладовщиков, швей и мебельщиков.
Не забыли мы о девушках благородного сословия. Для дворянских, духовных и купеческих девиц запланировали построить «Пансион благородных девиц святой Анны», названный в честь Шейлы. 7 лет 5 дней в неделю слушательницы будут ходить в него на учёбу, осваивая профессии бухгалтеров, управленцев, учителей и прочие благородные науки. Для этого поручил жёнам товарищей начать подбор преподавателей среди гостей литературного салона, да и самим заняться учительствованием, благо образование позволяло. В общем, персоналом занимались жёны нескольких офицеров, энтузиасты из завсегдатаев литературного салона и городские власти.
Второе дело было таким. Даже в 1760-х годах в России было мизерное количество текстильных мануфактур, выпускающих, за редким исключением, низкокачественный продукт. В своём большинстве они производили каразею – шерстяную ткань низкого качества, которая годилась только на подкладку. Такая же картина наблюдалась с льняными тканями, а хлопчатобумажную делала единственная мануфактура в Астрахани. Основными же производителями являлись кустари, но объёмы сделанной ими ткани были слишком маленькими для такой большой страны. Примерно 80% дорогих тканей, включая шёлк, сафьян, муслим, сукно или парчу, завозились только из-за границы.
Крупным английским и голландским торговцам такое положение дел было выгодно, а нашим «великим дворянам» претило заниматься производством – крупные капиталы были завязаны только на торговлю или сельское хозяйство. Естественно, для флотских и домашних нужд мы также везли ткань из-за бугра. К тому же с увеличением количества моряков городские ателье не только Таганрога но и окрестных городов не справлялись с возрастающими заказами.
Все эти факторы привели к тому, что я решил открыть текстильную и обувную мануфактуры со станками, переделанными под паровой привод. А чтобы построить производства, необходимо было определить, что для этого требуется. Обратившись за помощью к кустарям обувщикам, кожевенникам и ткачам-прядильщицам, определил технологию от подготовки сырья до выпуска ткани. На основания этого молодые Зорины приступили к проектированию будущих мануфактур полного цикла от промывки льна или шерсти до получения ткани.
В апреле из Петербурга прибыли шесть выпускников Морского корпуса. Новоиспечённые лейтенанты представлялись Покидову:
– Выше высокоблагородие, прибыли для прохождения морской службы в Азовской флотилии. В Корпусе просились к вам на парусные суда. Также привезли приказы Адмиралтейства и прочую корреспонденцию.
Покидов поглядел морские аттестаты, служебные направления и произнёс:
– Что же, господа офицеры, попали вы сразу под морской поход. Корреспонденцию сдайте в канцелярию, после чего прошу отправиться в порт и найти бриг «Азов». Капитан-лейтенант Медакин распределит вас по судам. С размещением определились?
– Никак нет.
– Тогда идите к капдва Чеканову, а затем в порт.
Через несколько часов, завершив дела со сдачей документов, получением адресов квартир, где будут проживать, и заселением туда вместе с молодыми жёнами, офицеры навытяжку стояли перед Медакиным:
– Так-с, лейтенанты Василий фон Албул, Александр Киселёв, Игорь Маслов, Юрий Шарнин, Алексей Гришанов, Кирилл Ярославцев. Судя по офицерским званиям, вы были в числе лучших гардемаринов. Расскажите, по какой причине изъявили желание служить на Азовском море?
– Ещё с кадетских времён состояли в переписке с нашими друзьями Невовым и Надеждиным. А Невов является троюродным братом Ярославцеву. Они-то нас сюда и позвали.
– Ясно, откуда ноги растут. На предвыпускной практике в Консепсьон ходили?
– Никак нет, ваше благородие. Ныне запретили хождение к экватору. Практику прошли на Балтике.
– Плохо, но не смертельно. Раз дружили с капитанами, к ним на суда и пойдёте.
Оказалось, что парни привезли приказы на плановое присвоение очередных званий, так что Медакин и Донской стали каптри. Всем остальным морякам, выходившим положенный срок, также были присвоены очередные звания. Дня три флотилия гуляла в городских кабаках, отмечая эти события.
И вот настал момент, когда суда вышли в море. По пути решили зайти в Пирей и Афины, чтобы прояснить ценовую обстановку. Суда шли под русским торговым флагом, решив в этот раз не маскироваться под османов. Бросив якоря в пирейском порту, приступили к спуску на воду шлюпок с баталёрами, которые проведут экономическую разведку в обоих городах. В это время от берега в нашу сторону мчалась яхта, а стоящий на её носу мужик активно жестикулировал. Жестами ему объяснили, что надо подгребать к баркентине, где находится главное начальство. Вахтенные матросы сбросили штормтрап, по которому мужичок довольно шустро поднялся на борт, а матросы из экипажа остались на яхте. Гость оказался невысоким, жилистым, бреющим голову «налысо» греческим купцом. Он затарахтел по-гречески, а затем по-турецки:
– Господин капитан, меня зовут Григорис Никитос. Увидев ваши суда, сразу понял – это мой шанс!
– Каптри Александр Михайлов. Что за шанс вы увидели при нашем появлении?
– Дело в том, что я купец, чья торговля завязана на Россию. Только с прошлого года приключилась беда – на суда моих поставщиков, везущих русский товар, напал какой-то мор. Их становилось всё меньше и меньше, а теперь практически не осталось.
– Действительно в Таганроге греков стало меньше. Я думал, что это связано с турками, закрывшими Босфор.
– Нет, турки ничего не меняли в установленном порядке. Но не в этом дело. Я рад, что оказался первым из своей гильдии.
– Вы уверены, что мы будем торговать?
– Прошу меня простить, но ваши суда довольно известны в нашем сообществе. Поэтому я подумал, что вы прибыли по торговым делам.
– Да, мы везём товар дальше, но если его можно выгодно продать здесь, почему бы этого не сделать?
Мы обговорили его потребности, объёмы, цену и даже возможность взаимозачётов. Оказалось, что в районе Афин и на прилегающих территориях расположены самые крупные в Европе плантации хлопка и табака.
– Вот откуда турки берут табак! А я думал, что его везут из Нового Света.
– Конечно, господин Александрос, много табака везут оттуда, но теперь его и у нас выращивают. А местный хлопок не хуже египетского.
В итоге мы продали ему часть российского товара, договорившись о поставках нам оливок, цитрусовых, хлопка, табака, магнезитов, никелевой, хромовой и цинковой руды, которые добывались в Фессалии и на Халкидики. От него узнали, что на нашем пути расположен остров Наксос, где имеется огромное месторождение минерала под названием наждак. Естественно, заглянули на остров, закупив пару тонн наждачного камня.
По знакомому маршруту эскадра прошла по европейским портам, остановившись в Танжере. При встрече подарил подарки Юсуфу и Абдулле, а они помогли сформировать караван к шейху Асаду. Сегодня в нём возвращались домой молодые берберские мастера. В Сиди-Кассеме шейх получил свои подарки и на картине увидел первого наследника в роду, отчего выглядел очень счастливым. Задержавшись в гостях на недельку, отработали технологию запуска строительства кузней. Затем вернулись в Танжер и добрались до Санта-Круза, привезя переселенцам полезные в хозяйстве вещи.
Этот поход был особенным – мы собирались отправиться в плавание за край света. Пополнили запасы провизии и воды, суда вышли в открытый океан. Погода стояла отличная, океан был спокойным, а ветер попутным. Однако на следующий день ветер, до этого бодро наполнявший паруса, стал стихать, и мы попали в полный штиль. Доложил вахтенный офицер Гришанов:
– Ваше высокоблагородие, ветра совсем нет. Интересно, надолго полный штиль установился?
– Черт возьми, мы же в «конских широтах». Увы, Алексей, никто не знает, насколько мы застряли в океане.
– Что за «конские» широты, господин каптри?
– Территория между 30 и 35 градусами северной и южной широты с частыми штилями.
– А отчего они конские?
– Из-за недостатка пресной воды застрявшие моряки выбрасывали за борт лошадей.
– Понятно, широты лошадиной смерти.
– Точно. Как появится ветер, уйдём севернее.
В первую очередь я, как командир эскадры, допустил штурманский просчёт, выбрав кратчайшее расстояние от Канар до Карибских островов, а не тот путь, где дуют попутные ветра. Простояв сутки, следующей ночью паруса затрепыхались от робкого пассата. Корабли встали в бейдевинд и, маневрируя парусами, направились в умеренные широты. И снова я допустил просчёт, отправившись на север. В скором будущем выяснится, что попутные восточные пассаты дуют южнее 30 параллели. Ну не ходил я тут никогда в прошлых жизнях, зная об этих широтах лишь понаслышке. Вот и не учёл тонкостей парусной навигации в этом регионе.
Корабли уже несколько дней шли в открытом океане. Мы видели китов, кашалотов и касаток, не говоря уже об акулах и стаях дельфинов. Иногда над нами в воздушных потоках парили огромные белые альбатросы. Бывало, что вдали нам встречались паруса, но одиночки стремились быстрее уйти с пути эскадры.
С капитаном я стоял на шканцах, когда вахтенный мичман доложил:
– Господин капитан, барометр падает.
– Вижу, что ветер меняться стал. Сильно падает?
– Так точно, господин капитан.
– Попадём в шторм.
– Это точно! То нет ветра, то такой дует, что мама не горюй. Сигнальщик, просемафорь на остальные суда о надвигающемся шторме, чтобы не прозевали. Сейчас лето, он не должен быть длительным.
Длительный – не длительный, а океанский шторм – это сила, так что помотало нас полночи капитально. Весь следующий день разбросанные волнами суда собирались, чтобы вернуться на проложенный курс. Слава Богу, все экипажи и корабли прошли испытание стихией. Этому особенно радовались новички, кто ещё не бывал в океане, а тем более, в океанском шторме. Три недели мы телепались по Атлантике, добравшись до выступающих из воды островков буро-зелёных водорослей, медленно дрейфующих на север. Никто из моих товарищей не представлял, куда мы попали и почему нас сносит на север. Я сообразил, что нам противостоит тёплое течение Гольфстрим, которое зарождается в этих широтах. А кроме этого вспомнил ещё об одном очень неприятном моменте, о котором рассказал офицерам:
– Парни, поздравляю всех – мы прошли две третьих пути и сейчас нас ждёт очень опасное препятствие. Перед нами раскинулось навевающее ужас на всех моряков Саргассово море.
– Неужели это оно, командор? Мы о нём только в морском атласе читали.
– Да, братцы, если попадём в это море водорослей – хрен выберемся. Будем обходить его. На штурвале, курс зюйд-зюйд-ост. Просемафорить эскадре мой приказ.
Кораблёв повторил приказ, сигнальщик продублировал его на идущие следом суда, и вся эскадра повернула на юго-юго-восток, чтобы обойти страшное море водорослей. Оно занимало большую часть знаменитого Бермудского треугольника. Тем не менее, продвигаясь вперёд, всё чаще стали попадаться плавучие островки бурых водорослей. Я приказал убрать часть парусов, чтобы вовремя успеть отвернуть в сторону от нескончаемых зелёно-бурых полей. Постоянно корректируя курс, суда повернули на пару румбов в сторону океана, но всё равно захватили край саргассов.
Дело шло к вечеру, когда сидящий в своём «вороньем гнезде» марсовый прокричал: «Корабль на горизонте!» Вскоре его увидели и мы. Гонимое волнами и течением судно не собиралось убираться с нашего пути и корабли уверенно сближались. Тут моряки, стоящие у борта, стали кричать: "Русалки! Полундра, братцы!» От такой неожиданности я чуть было не поперхнулся. Подбежав к борту, увидел среди водорослей существ, смотрящих на нас из воды лупатыми глазами. Правда, морды они имели совсем не человеческие, зато мило улыбались. Я улыбнулся и проговорил: «Тьфу ты, русалки! Напугали только. Дайте банан и перекиньте штормтрап».
Мне принесли банан, я очистил его и, перебравшись через борт, спустился к воде. Одни русалки погружались под воду, а некоторые ожидали человека. Весь борт был усыпан моряками, смотрящими, как командор кормит русалок. Я протянул банан морскому созданию, та понюхала и слопала его. Вблизи матросы разглядели, что тела существ напоминали тюленьи. Мне скинули ещё связку, которую я роздал подплывающим животным, даже погладил парочку ближайших ластоногих, а потом помыл руку в морской воде. За моими действиями смотрели матросы идущего следом фрегата.
Поднявшись на борт, посмеялся вместе с матросами, отвечая на их вопросы:
– Вашвышбродь, кто это?
– Это дюгонь – морская корова, мирное и безобидное существо.
Между тем мы все ближе сходились с кораблём. Вот он навевал гораздо больше опасений, чем «русалки». Офицеры и матросы рассматривали посудину, тихо пересказывая морские байки. В свете заходящего солнца его чёрный остов навевал неприятные ощущения, а по спине, нет-нет, да пробегал липкий холодок страха. Дело заключалось в том, что судно было совершенно безжизненным, а на реях полоскались обрывки парусов. Ветер или течение вытолкали парусник на край Саргассова моря, вырвав из буро-зелёного плена, однако к этому времени он уже был мёртв.
Снова стали раздаваться разговорчики:
– Братцы, корабль-то мёртвый!
– Это же «Летучий голландец»!
– Быть беде!
Я слышал эти разговоры, поэтому надо было что-то делать, иначе команда, впервые встретившая судно без экипажа, в случае шторма или какой-либо заварухи могла потерять контроль над своими эмоциями и опустить руки, мол, такова судьба. Пришлось отдавать новую команду:
– Абордажники, готовь кошки.
Стоявший рядом корабельный врач Достоевский спросил:
– Александр Иванович, вы хотите перейти на борт шлюпа? Это очень опасно. Его команда могла погибнуть от дизентерии, жёлтой лихорадки, холеры, в конце концов!
– Подготовьте спирт, вернусь, промою руки и рот.
Рот я промыл сразу, как и руки, а когда абордажники сцепили судна энтер-дреками, перескочил на борт. За мной сразу последовал судовой врач. Вдвоём мы отправились путешествовать по шлюпу. Перво-наперво, прошли в каюту капитана, чтобы почитать судовой журнал – из него будет понятно, что случилось с командой. Дверь в каюту была сломана, а на полу лежал десяток скелетов в полуистлевшей морской форме. Мы открыли журнал, выбирая интересующие нас записи: «После Пасхи шлюп «Утрехт» вышел из порта Амстердам с грузом мушкетов, направляясь к Голландской Гвиане (Суринаму). Ночью 15 мая 1760 года корабль налетел на водоросли и застрял. Чёртово Саргассово море!» Затем шли записи с описанием жизни команды в плену у водорослей. Когда у них закончилась вода, матросы стали драться за её последние крохи. Последняя запись гласила: "Сегодня 1 августа 1760 года. На судне бунт, матросы ломают дверь моей каюты, где с последним бочонком воды заперлись три офицера и я, капитан Арни Куман».
Чем закончился бунт, было понятно. Мы прошли дальше, находя в коридорах, на нижней палубе, в кубрике скелеты членов команды.
– Получается, команду съели бактерии и черви, а гнилостные микробы выветрились.
– Судно доведём до Карибов и продадим, а голландские мушкеты с боеприпасами перегрузим себе.
– Александр Иваныч, ты хочешь это сделать ночью? Боюсь, что команда…
– Сам боюсь! Шутка. Сделаем всё завтра при свете дня.
Корабли легли в дрейф, ожидая утра, а я рассказал команде, о чём прочитал в судовом журнале. Когда над океаном поднялось солнце и на кораблях проведена ежедневная приборка, я объявил матросам о том, что собираюсь сделать с судном. Прочитав молитвы, какие знал, с зажжённой свечой обошёл корабль, окропляя его и груз святой водой, после чего объявил судно очищенным от зла. Перейдя капитаном на шлюп, забрал часть абордажников, десяток опытных матросов и пару мичманов, а также лейтенанта фон Албула, после чего «Утрехт» встал во главе колонны.
Как только я стал не капитаном, а командующим эскадры, за глаза офицеры и матросы эскадры стали называть меня командором. Опытные матросы успокаивали молодняк: «Командор даже морского дьявола не боится. Раз сказал: «Судно очищено», – значит, оно очищено». Я тоже внёс свою разъяснительную лепту: «Товарищи матросы и офицеры, если мы берём судно на абордаж, чем оно отличается от этого? Ничем! Его экипаж также становится мёртвым, как экипаж этого парусника. Только в данном случае на ваших руках нет крови и проклятий гибнущих. А это замечательно! За какие-то чёрные дела Бог покарал экипаж этого судна. Зато нас за наше мужество Бог поощрил, отдав этот корабль в качестве приза».
На шлюпе провели генеральную уборку, из корабельного запаса подремонтировали такелаж и заменили паруса, а погибший экипаж согласно морскому ритуалу похоронили в море. К вечеру судно, на котором развевались новые паруса и бегали матросы, ничем не напоминало зловещий призрак, каким мы увидели его вчерашним вечером.
Эскадра продолжила плавание. Иногда на горизонте виднелись застывшие остовы судов, дрейфующие вместе с водорослями по маршруту, ведомому лишь морскому Богу. По моему приказу матросы поднимали на палубу бурые водоросли. Под тропическим солнцем за сутки растения засыхали, их перетирали в порошок и убирали в трюм, а на палубу поднимали новые. Придёт время, и я извлеку из порошка йод. Наконец, мы обогнули саргассы и по чистой воде добрались в порт Нассау – столицу британских Багам и прибежище английских пиратов. Там мы продали надраенный командой шлюп одному из капитанов.
Пополнив запасы воды, сразу положили в бочонки серебряные кресты и двинулись на юг вдоль гряды Антильских островов. В зависимости от дующих ветров, верхней части Антил моряки дали название Наветренные острова, а нижней – Подветренные. Мы шли вдоль Наветренных островов, заходя в крупные порты французских, английских или голландских колоний. Везде я лично сходил на берег, осматривая город и оборонительные укрепления, а мои помощники узнавали, какой товар и по какой цене здесь покупают и продают. Посетив несколько портов, выяснили ассортимент товаров и составили общую картину о системе городской обороны. Если не переть на пушки с криками «ура», а провести тихий ночной захват – всё решаемо.
Всех нас интересовал вопрос с пиратством в регионе. Овеянные романтизмом вольного братства, Карибы вызывали жгучий интерес у офицеров, читавших романы о флибустьерах, а рядовые матросы об этих местах даже не слышали. Золотые времена пиратства, когда правили бал Генри Морган по кличке "Жестокий", впоследствии ставший губернатором Ямайки, Френсис Дрейк – адмирал Великобритании, завершивший разгром испанской "Непобедимой армады", Эдвард Тич "Чёрная борода", Бартоломью Робертс "Чёрный Барт", испанец Амаро Парго и другие, канули в прошлое. Однако мы сами столкнулись с тем, что никто не отказывался от быстрого заработка. Пусть диких пиратов стало меньше, зато им на смену пришли цивилизованные бандиты морей, грабящие других при покровительстве своего государства.
В военное время пираты покупали у губернаторов каперское свидетельство "Letters of Marque", дающее право захвата и грабежа неприятельской собственности, а в мирное время использовали так называемую репрессальную грамоту. Эти бумаги разрешали капитану вершить возмездие за нанесённый ему ущерб подданными других стран. Был ущерб или нет, никого не волновало – плати деньги за грамоту и делай, что хочешь. Несмотря на то, что сейчас в мире был мир, спокойно плавать по Карибскому морю, впрочем, как на любых других торговых маршрутах Европы, Азии или Африки, никто не даст.
Наша эскадра состояла из военных судов, идущих под испанским флагом. Поскольку информации о том, что она перевозит золото или богатый товар, никто из местных не имел, нас брали «на заметку», но не более. Через несколько дней показались берега испанской провинции Новая Гранада, где у меня был знакомый вице-король. Суда подошли к острову Сапата, прикрывающему вход в залив Маракайбо. Одноимённый город являлся главным портом провинции, откуда корабли с серебром и золотом уходили в Испанию. Первыми встретившими нас на испанской земле, оказались канониры расположенного на острове форта Сан-Карлос.
Неожиданно они дали из пушек приветственный залп, на крепостной стене выстроился гарнизон, а её комендант отдавал нам честь шпагой. Мы также ответили холостым выстрелом, салютуя гарнизону, и вошли в длинный, не менее 15 километров, залив. Пока преодолевали его, в городском порту тоже бахнули пушки, салютуя прибывшим, на пристани были построены солдаты, играл оркестр, толпился народ и городские боссы.
Матросы и офицеры наших кораблей говорили друг другу примерно одно и то же. Кораблёв с улыбкой спросил меня:
– Ничего не понимаю, с чего это нас так встречают? Командор, часом, ты ничего не организовал?
– Дмитрий, сам не понимаю, что это значит.
Баркентина пришвартовалась первой, мы спустили трап и я вместе с Кораблёвым и десятком матросов сошёл на берег. Мне навстречу шёл, кто бы вы думали, вице-король Аудиенсии Новая Гранада Хосе де Кортес. Увидев меня, граф воскликнул: