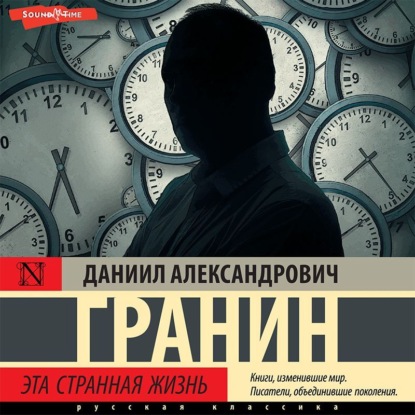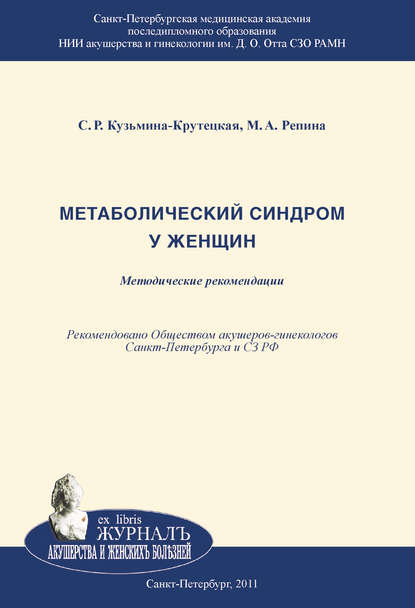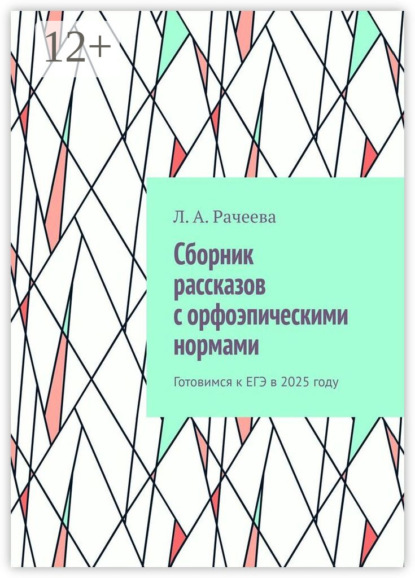…Разбилось лишь сердце моё

- -
- 100%
- +

Серия «Предметы культа»

Предисловие и комментарииЮлианы Каминской
В оформлении книги использованы фотоматериалы из семейных архивов Ирэны Гинзбург-Журбиной и Юрия Гинзбурга

На переплете – гравюра Евгения Бургункера (контртитул из книги“ Немецкие народные баллады: в переводе Льва Гинзбурга”);фрагмент фото Льва Гинзбурга (“На фоне Бранденбургских ворот в еще не разделенном Берлине”)
ХудожникАндрей Бондаренко

© Гинзбург Л.В., наследники
© Бондаренко А.Л., макет, вклейка
© ООО “Издательство АСТ ”
Лев Гинзбург
Знаменитый, энциклопедически образованный переводчик-виртуоз и публицист Лев Владимирович Гинзбург (1921–1980) был одной из ключевых фигур в художественной культуре советского времени. Он подарил нашим соотечественникам русские версии многих стихотворений, составивших славу немецкой литературы. Народные песни и баллады, средневековая лирика бродячих школяров, поэзия времен Тридцатилетней войны (1618–1648), классическое наследие Гёте, Шиллера и Гейне в сочетании с произведениями современников, от популярного Брехта до малоизвестных в России авторов, – все эти сокровища словесности нашли живой отклик в сердцах читателей. Благодаря переводу Гинзбурга едва ли не каждый в нашей стране знает строки студенческого гимна: “Во французской стороне / на чужой планете / предстоит учиться мне / в университете”. А многое ли нам известно о человеке, нашедшем для этого старинного стихотворения точные и запоминающиеся русские слова?
Лев Гинзбург родился 24 октября 1921 года в семье московского юриста. Первые шаги в литературе – благодаря детской студии под руководством поэта Михаила Светлова – будущий филолог сделал еще в школьные годы. В 1939 году он поступил в ИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории), но вскоре был призван в армию и завершил образование в Московском университете лишь после войны. К концу 1940-х годов относятся первые заметные переводческие работы Гинзбурга, а их многочисленные сборники начали печатать уже в следующем десятилетии. Поэтесса и переводчица Ирина Гинзбург-Журбина писала о наследии отца: “Родись мой отец в другое, вольное, время, то безусловно стал бы ярким, самобытным поэтом. Но в пору безвременья и духовного гнета стихотворный перевод давал ему уникальную возможность выразить свои сокровенные мысли, высказать свою ненависть к рабству…”. С середины 1950-х поэтические книги сопровождает проза, насыщенная размышлениями о чудовищных катастрофах духа, свидетелем которых стал поэт-фронтовик.
Воспоминания Гинзбурга “…Разбилось лишь сердце мое” были отданы в печать после его смерти, наступившей 17 сентября 1980 года. Так уникальные мемуары филолога стали итогом его жизни, его завещанием. Впервые публикуемые без издательских и цензурных сокращений, они позволяют задуматься о сути переводческой деятельности, ее задачах и традициях, рассмотреть не только литературные процессы, но и историческую панораму XX века, сохраненную в творческой памяти проницательного наблюдателя, а главное – увидеть за строками стихотворений неповторимую личность, живую и мятущуюся, бесконечно любящую, страдающую от одиночества и оставляющую нам в наследство бесценный словесный дар.
Юлиана Каминская
…Разбилось лишь сердце моё
И это вот что означало:Все человечество кричалоИ в исступлении звалоИзбыть содеянное зло…Вольфрам фон Эшенбах.ПарцифальНесчастие – самая плохая школа!
Герцен. Былое и думыОт автора
О чем эти записи? Рассуждения о труде переводчика поэзии? Страницы воспоминаний? Серия литературных и житейских новелл? Затрудняюсь ответить…
Любая человеческая личность, как бы ни была она угнетена заботами повседневности, вмещает в себя весь мир, исторический опыт поколений, причастна к высочайшим понятиям. Земное и духовное начала переплетены в жизни и в каждом из нас, ежесекундно проникают друг в друга. Дух, вырываясь из-под ярма бытия, устремляется ввысь, и он же, силой земного притяжения, возвращается к нам на землю. Именно этой причудливой диалектикой объясняется жизненность и одухотворенность искусства.
Жизнь переводчика тысячелетней поэзии показалась мне наиболее удобным объектом для наблюдения этих диковинных переплетений и взаимосвязей. В силу одного своего призвания он обязан вобрать в себя культуру, мысль, опыт столетий и он же должен себя самого – маленькое свое, частное, сформированное временем человеческое “я” – как бы отдать “вечности”, непрерывному потоку истории.
“Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объект, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя, как на одного из сынов известной эпохи”, – обольщал себя в своих “Воспоминаниях” Аполлон Григорьев[1].
Едва ли кому-либо удавалось добиться подобной объективности. И все же, говоря о себе самом, предаваясь тем или иным, подчас рвущим сердце личным воспоминаниям, я стремился выявить пугавшую меня самого таинственную связь времен, сходство множества судеб, единую зависимость людей от обстоятельств и прихотей Времени, единую нашу ответственность перед ними…
В поисках Святого Грааля
1“Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда”, – сказано в известном стихотворении Ахматовой. А переводы? Из чего произрастают они?
О, конечно, мы знаем: из высокой потребности высказаться посредством перевода устами другого автора, пропустив себя через него (а не только его через себя!), из желания поведать своему читателю то, что в подлиннике потрясло вас самого, из необходимости или жажды открывать неоткрытое, неведомое… Но все это – общие положения, это известно.
На самом деле переводы, как и стихи, непременно рождаются из сора повседневности, из сора жизни, из сора неприбранного человеческого бытия. При этом побудительные причины для начала работы могут быть совершенно разные: увлеченность темой, вдохновение, издательский заказ…
Немецкие народные баллады я начал переводить, следуя урокам Маршака, влюбленный в его шотландские и английские народные баллады, в рамках его школы. Но хорошо помню, как, прочитав в “Иностранной литературе” Франсуа Вийона в переводе Эренбурга, с его же предисловием[2], испытал непреодолимое желание прикоснуться к причудливому средневековому миру, вдохнуть острый аромат старины, ощутить строптивость свободной поэтической личности. Такому восприятию в немалой степени способствовала и вступительная статья – одно из ярких эренбурговских эссе на историческую тему.
Эта журнальная подборка стала своего рода толчком к работе, сыгравшей важную роль в моей литературной биографии. Внутренняя тема была подсказана, оставалось найти материал, которым и явились немецкие народные баллады, добытые из многих источников и составившие небольшую книжечку.
В первой своей работе над немецкой стариной я опирался и на пастернаковский перевод “Фауста” с его особым ощущением темных закоулков средневекового немецкого мышления и закоулков средневековых немецких городов: попав в 1956 году впервые в Лейпциг и Веймар, я узнал пастернаковские строки…
Еще до немецких народных баллад в моей жизни произошла встреча с молодым Шиллером, с его ранней лирикой, а затем – с “Лагерем Валленштейна”[3]. И все же я считаю эту встречу всего лишь (вернее сказать, не всего лишь, а прежде всего) школой для дальнейшего продвижения вглубь. Надо было вникнуть в Шиллера, чтобы потом попытаться понять и народные баллады, и поэзию Тридцатилетней войны[4], и лирику вагантов[5]. Шиллер приоткрыл мне то, что именуется немецким духом, немецкой субстанцией, – тайну немецкого поэтического воображения.
Но из чего рождаются переводы? Как они возникают? Я еще опишу подробно свои мучения, связанные с переводом шиллеровского стихотворения “Раздел земли”. Всего лишь одно словцо – отделяемая приставка “hin” – определило тогда интонацию стихотворения, судьбу перевода, а может быть, и всю мою дальнейшую переводческую судьбу. Я понял, что, из какого бы “сора” переводное стихотворение ни росло, вначале все равно должно стоять слово подлинника.
“Переводя, смотрите не только в бумагу, но и в окно”, – справедливо наставлял переводчиков Маршак, предостерегая их от мертвой академической книжности.
Однако из этого вовсе не следует, что, “глядя в окно”, можно забыть про “бумагу”, то есть не контролировать себя с помощью словаря, точного знания текста, не располагать необходимыми литературоведческими, историческими и прочими сведениями. В переводе поэзия встречается с филологией, вдохновенный порыв – с кропотливым исследованием. Даже на высшей точке вдохновения переводчик вынужден остерегаться, что его может унести далеко в сторону от подлинника, от материи первоисточника.
Все это, разумеется, не снимает главного требования к переводам и переводчикам: таланта, артистизма, поэтического изящества. Перевод, несомненно, является формой литературоведческого исследования, но только в том случае, если он художественно состоятелен.
В свой черед поэт чувствует себя намного свободнее, если он в достаточной степени оснащен знанием. Право на творческую вольность, на дерзание, на смелый и неожиданный ход дает лишь полное и всестороннее владение оригиналом.
Одно связано с другим.
Я переводил раннего Шиллера – “Мужицкую серенаду”, “Вытрезвление Бахуса”, мне надо было выявить и обосновать фольклорную подоплеку его юношеской лирики, пробиться не к мраморному божеству, не к Шиллеру бюстов и памятников, а к молодому белобрысому лекарю: нигде так не чувствуешь Шиллера, как на убогом чердаке его дома в лейпцигском предместье Голис[6]. Но чердак так бы и остался музеем, если бы в первооснове восприятия не лежали шиллеровские стихи, с их неповторимым ладом, лексикой, строфикой…
В переводе “Лагеря Валленштейна” встреча переводчика с автором шла как бы с другого конца. В этой работе ожил опыт моих шести с половиной армейских лет[7]. Я слышал ржание коней, скрип повозок, байки полковых балагуров, рассудительную речь бывалых солдат. Да, конечно, я переводил не кого-нибудь, а Шиллера, дышал Германией, немецкой музой, полюбившимся мне книттельферзом – немецким раёшным стихом[8]. Но при мне, со мной были и приамурские сопки, землянки, мои товарищи, с которыми я служил. В шиллеровский текст стали входить: “стрельбище”, “караульная будка”, “поверка”. Расстрига-капуцин в своей потешной проповеди кричал: “…в бога мать!” – причем делал это в достаточно верном соответствии с тем, что он произносил в подлиннике. Отчаянная бесшабашность, грубость, щемящая нежность, подневольность и повышенное чувство собственного достоинства – все, что перемешалось в жизни, было записано Шиллером в его народной драме.
Работая, я меньше всего думал о литературоведческих определениях, но, заканчивая тот или иной эпизод, всякий раз заглядывал в пособия, чтобы не ошибиться в трактовке образов, в реалиях или в передаче особенно важных мест, вплоть до формул, ставших в немецком оригинале классическими.
Я убежден, что каждый перевод не может не содержать в себе внутренней темы, которую привносит в свой труд переводчик, нет перевода без “сверхзадачи”.
Темой немецких народных баллад было для меня гармоническое согласие с жизнью, присущее народному мышлению. В лирике вагантов я читал буйство, протест, активное неповиновение мертвым догмам, канонам, противопоставление радости жизни унылому, бездушному и ханжескому “порядку”, который на самом деле есть высший беспорядок и вакханалия… Вот что слышалось в песнях вагантов – бродячих школяров и клириков, вот чем они меня захватили[9].
Переводы “растут” не сразу. Между текстом и сердцем переводчика может годами не возникать никакого контакта.
“Марата” Петера Вайса[10] я не мог прогрызть около двух лет, хотя присаживался к столу, чтобы начать перевод, почти ежедневно. И только однажды, внезапно найдя неожиданную рифму: “театра – психиатра”, зажегся так, что перевел пьесу залпом, за месяц.
Поэзия немецкого барокко (XVII век), переводам которой я из всего, что сделал, придаю едва ли не главное значение, оставалась мне долгое время неизвестной, пока на нее не обратил мое внимание Стефан Хермлин[11]. Точно могу сказать, где и когда это было: в доме у Маргариты Алигер[12] 7 ноября 1960 года. Он назвал мне несколько источников и среди них книгу Бехера[13] “Слезы отечества” – антологию немецкой поэзии XVI–XVII веков.
Я стал читать то, чем потом жил, – ничего другого делать не мог, только переводил эти стихи, – но тогда глаз даже не остановился ни на чем, скользил по страницам, не было ни одного стихотворения, которое хотя бы одной строкой просматривалось как будущий перевод, пока в 1961 году, глубокой зимой, в дни тяжелой болезни моей матери, не зацепился за строчку сонета Грифиуса – “Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе…”, не сцепил ее с другой…
Так началась книга “Слово скорби и утешения” – работа, практически завершенная лишь в 1973–1975 годах. В подлиннике содержались размышления о судьбах Европы, о пагубе войны и отчаянном ее противодействии. Но ведь не только о войне и о мире шла здесь речь. В стихах XVII века сама война представала как наказание человечеству за его слепоту, за греховность, за своекорыстие. Ставился вопрос: быть или не быть, жить или не жить, а если жить, то как: в рабстве, в глупости, в темноте или в свободе, в любви, в созидании земных благ? Ставились большие, кардинальные вопросы жизни и смерти не только отдельного человека, но и всего человечества, сопричастного каждому отдельному человеку, причем ставились неистово, мощно…
Именно этим меня захватила поэзия немецкого барокко, и в переводы я “вбивал” именно эту – уже не только Грифиуса, Опица, Флеминга, Гергардта, но как бы и свою – идею…
Справедливо говорят: важно побывать в стране поэта или на месте действия произведения, которое переводишь. Работая над поэзией XVII века, я побывал, кажется, на местах всех главных сражений Тридцатилетней войны: видел и Белую гору в Праге, и сожженный когда-то войсками генерала Тилли Магдебург, выдержавший осаду Штральзунд, города Силезии, поле битвы под Лейпцигом, в Лютцене, где убили шведского короля Густава-Адольфа, кусок земли, который и сейчас еще принадлежит шведскому правительству и куда ежегодно на торжественную церемонию съезжаются шведы, видел замок в Хебе (Эгере)[14], где был заколот Валленштейн, и даже трогал рукой наконечник копья, которым его закололи…
В музеях хранятся ржавые ядра, пищали, железные, с потайными замками сундуки войсковых казначеев, ветхие, выцветшие штандарты… И все это, включая, конечно, архитектуру барокко, нужно было увидеть, все это позже мне пригодилось. Но гораздо важней было проникнуться тем тревожным мироощущением, которое испытываешь, странствуя по городам и дорогам Европы, приобщаясь ко множеству судеб, из которых складывалась единая европейская судьба. История здесь взывает к современности: вглядись в мои памятники, в мои могилы, в мои шрамы!.. Да не пройдет для тебя бесследно мой опыт!..
Я переводил поэтов XVII века, с их предостерегающим, гражданственным пафосом, рожденным в пламени Тридцатилетней войны, передо мной вставали “священные камни Европы”[15]: не только акрополи и колизеи, но сизые, сиреневые, серые европейские каменные улицы – дом к дому, булыжник, брусчатые мостовые. Европа вся каменная, и “священные камни” – не одни лишь соборы и королевские замки, но и набитые людьми каменные дома, которые могут вдруг рухнуть, если их не защитить, – посыплются стекла, погаснут витрины, сгорят книги…
Строки “барочных” стихов словно корчились, кривились от боли – не от этой ли боли их дисгармоничность?
И все же одного этого ощущения для перевода было недостаточно.
В лирике барокко особенно важно воспроизвести приметы стиля – такие, например, как эмблематика, колоризм, звукопись. В стихах имитировались шум дождя, ветра, пушечная пальба, треск фейерверка. Были стихи, как бы написанные красками, – рыжие строки осени, холодная белизна зимы. Стихи изобиловали эмблемами: “…замшелая стена, пещера, череп, кость…”
Конечно, у переводчика нет ящика с приемами, с “изобразительными средствами”. Как и оригинальный поэт, он берет их из жизни, из окружающего мира, с той лишь разницей, что берет только по повелению подлинника.
В стихотворении Зигмунда фон Биркена[16] “Осенняя песнь Флоридана” нужно было передать грохот телег, стук падающих на землю плодов, звуки и цвета урожайного праздника…
Был теплый и влажный серый сентябрьский день. Безуспешно проведя несколько часов за письменным столом, я вышел на улицу. В голове вертелись обрывки немецких строк.
У овощной палатки разгружали виноград, яблоки, рабочие с грохотом ставили на землю дощатые ящики. Прогромыхал, подпрыгивая, грузовик с надписью на борту “Уборочная”…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Воспоминания поэта, переводчика и литературного критика Аполлона Григорьева (1822–1864), впервые собранные под одной обложкой лишь в 1930 г., стали примечательным образцом автобиографической прозы XIX в. С детальными комментариями они были опубликованы в серии “Литературные памятники” в 1980 г., когда Л. Гинзбург завершал работу над книгой собственных воспоминаний.
2
Поэтические произведенияФрансуа Вийона (1431(1432)–1463; наст. имя Франсуа де Монкорбье), последнего из знаменитых поэтов французского Средневековья, были опубликованы в №№ 1 и 7 журнала “Иностранная литература” за 1956 г. Множество переводов были выполнены еще совсем юным Ильей Эренбургом в 1910-е гг., в период его парижской эмиграции, а позднее подверглись переработке уже повзрослевшим писателем.
3
“Лагерь Валленштейна” – первая часть драматической трилогии Фридриха Шиллера, включающей также “Пикколомини” и “Смерть Валленштейна” (1797–1800). Историческим прототипом центральной фигуры стал Альбрехт Венцель (Венцеслав) Евсевий Валленштейн (Вальдштейн), (1583–1634), генералиссимус имперских войск во время Тридцатилетней войны.
4
Тридцатилетнюю войну 1618–1648 гг. принято считать первой общеевропейской войной. Она представляла собой масштабную серию вооруженных столкновений между габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги, католические князья Германии, поддержанные папством и Речью Посполитой) и антигабсбургской коалицией (германские протестантские князья, Франция, Швеция, Дания, поддержанные Англией, Голландией и Россией). Габсбургский блок выступал под знаменем католицизма, а антигабсбургская коалиция (особенно вначале) – протестантизма.
Поэзия, возникшая на разных языках в период Тридцатилетней войны, выявляет историческую общность европейских культур и отражает эпоху, о которой Лев Гинзбург в предисловии к сборнику своих переводов “Немецкая поэзия XVII века” (1976) писал: “Человеческий дух метался от надежды к отчаянию, от глубокой подавленности и пессимизма к безудержному жизнелюбию, от мрачного религиозного мистицизма к обожествлению самого человека – центра мироздания, венца всего сущего”. В связи с этим переводчик формулирует важную для науки задачу, до сих пор сохраняющую актуальность: “Еще, очевидно, предстоит выявить «общий знаменатель», связывающий между собой, скажем, немца Грифиуса и испанца Гонгору, англичанина Джона Донна и итальянца Марино, чеха Яна Амоса Коменского и поляка Яна Морштына, русского поэта Симеона Полоцкого и украинского – Григория Сковороду…”
5
Ваганты (лат. vagantes, от vagari – “скитаться”) – в средневековой Западной Европе бродячие студенты, представители низшего духовенства, школяры. Расцвет вольнодумной, антиаскетической, антицерковной литературы вагантов, в основном песенной, пришелся на XII–XIII вв.
6
С 7 мая по 11 сентября 1785 г. 25-летний Фридрих Шиллер жил на окраине Лейпцига в деревне Голис – на верхнем этаже дома, возведенного в 1717 г. как одноэтажная жилая крестьянская постройка. Во второй половине XVIII в. горожане облюбовали предместье Голис для летнего отдыха. Поэтому жилой дом, как и многие другие в деревне, был надстроен для получения недорогих квартир, которые можно было сдавать в теплое время года. Именно под крышей и ютился Шиллер, работая над драматической поэмой “Дон Карлос” и первой версией знаменитой оды “К радости” (1786). С 1848 г. это здание стало музеем Шиллера.
7
Лев Гинзбург был призван в армию в сентябре 1939 г. студентом-первокурсником ИФЛИ служил на Дальневосточном фронте, сразу после срочной службы став участником Великой Отечественной войны.
8
Раёшный стих – форма народного стиха со смежными рифмами и нередко элементами белого стиха. Раёшник сочинялся для народного кукольного театра, бродячих балаганов, вертепа. Выступления нередко были импровизированными. Термин происходит от слова “раёк”. В России XVIII–XIX вв. так называли ящик с отверстиями, снабженными увеличительными стеклами, через которые зрители на ярмарках рассматривали вращающиеся внутри картинки, а также показ таких картинок, сопровождавшийся шутливыми пояснениями, прибаутками.
Немецкая разновидность раёшника – книттельферз или, что ближе к немецкому произношению, книттельферс, “ломаный стих”. Он был излюбленным стихом Ганса Сакса (1494–1576), в значительной степени повлиявшего на историю немецкой литературы, в особенности – на творчество Гёте и его последователей.
9
Основным результатом этой переводческой работы стала книга “Немецкая поэзия XVII века в переводах Льва Гинзбурга” 1976 г., подготовленная издательством “Художественная литература”, однако несколько значимых стихотворений были опубликованы ранее, в сборнике “Страницы немецкой поэзии в переводах Льва Гинзбурга” 1970 г.
10
Петер Ульрих Вайс (1916–1982) – немецкий писатель, художник и кинематографист, с 1939 г. живший в Швеции, автор романов и пьес острой социально-критической направленности. Широкую интернациональную известность Вайсу принесла пьеса “Marat/Sade” (“Марат/Сад”, полное название: “Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленное актерской труппой госпиталя в Шарантоне под руководством господина де Сада”). Она была впервые сыграна в 1964 г. на сцене Театра Шиллера в Западном Берлине.
11
Стефан Хермлин (1915–1997) – немецкий писатель и переводчик с французского, участник антифашистской борьбы; после 1949 г. жил в ГДР, став одним из ее самых известных литераторов. Автор поэтических произведений, рассказов, автобиографической повести “Вечерний свет” (1979) и литературно-критических эссе.
12
Маргарита Алигер (1915–1992) – русская советская поэтесса, журналистка и переводчица, автор поэмы о Зое Космодемьянской “Зоя”, за которую в 1943 г. была награждена Сталинской премией (Государственной премией СССР), известна также своей мемуарной прозой.
13
Йоганнес (Йоханнес) Бехер (1891–1958) – немецкий писатель-коммунист. Его первая книга стихов “Распад и торжество”, опубликованная в 1914 г., обнаруживает влияние экспрессионизма. Мастер поэзии большого города, рано примкнувший к революционным кругам, государственный деятель ГДР.
14
Хеб – один из самых древних городов Чехии, история которого начинается с XI в. Его немецкое название – Эгер. В ходе Тридцатилетней войны он был дважды захвачен шведами и сильно разрушен, городские стены и укрепления были срыты в 1808–1809 г., однако ряд построек все еще хранит память об Альбрехте Валленштейне, полководце Тридцатилетней войны, жизнь которого привлекла внимание Шиллера и побудила его создать трилогию “Валленштейн” 1799 г.