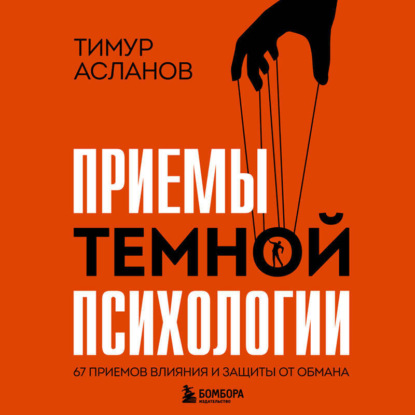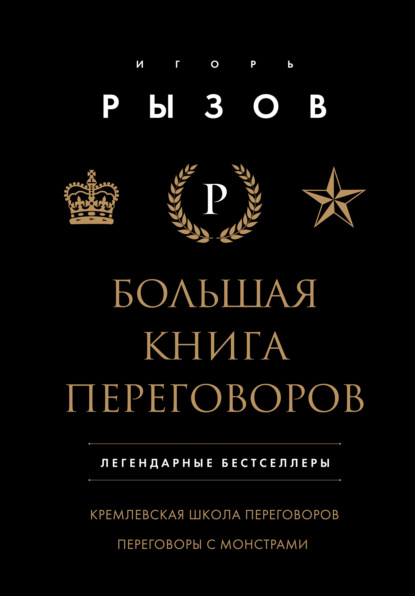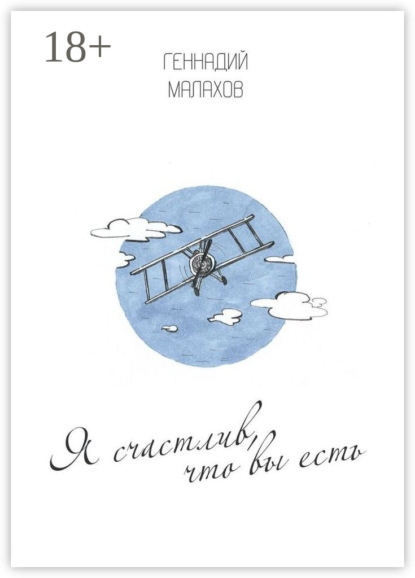Нейропереговоры. Как добиваться своего, используя науку о мозге

- -
- 100%
- +
Например, согласно теории рационального выбора[3], чем больше у вас вариантов, тем лучше, поскольку так есть возможность выбрать наиболее оптимальное предложение4. Эта концепция, казалось бы, дает логичный и удобный инструментарий, который позволяет свести переговорный процесс к решению задачи на сложение, вычитание и поиск лучших альтернатив. И часто система работает. Однако случается, что шаблонное использование может не только оказаться бесполезным, но и существенно навредить переговорщику.
Прежде всего, переговоры никогда не сводятся только к числам – будущей прибыли, цене товара и т. д. Помимо этого, есть и качественное измерение, связанное с нематериальными, бессознательными факторами, вытекающими все из тех же эволюционных особенностей нейрофизиологии. Люди остаются людьми даже в переговорной ситуации, а не превращаются в бездушные калькуляторы.
Хороший пример, когда не работает теория рационального выбора, – исследование Майкла Шерера и его коллег5, в котором ученые оспаривают предположение, что наличие нескольких вариантов всегда лучше, чем один. В эксперименте испытуемым поставили задачу: продать кофемашину по максимальной цене. Участников разделили на четыре группы и попросили разместить объявление о продаже через интернет, но не указывать стоимость товара. Затем подставные покупатели писали и звонили продавцам, предлагая свою цену.
В первой группе участникам-продавцам поступило только одно предложение – покупатель предлагал забрать кофемашину за 75$. Второй, третьей и четвертой группам покупатели последовательно предлагали разные суммы:
85$, 80$, 75$;
80$, 75$, 70$;
75$, 60$, 65$.
В результате продавцы из первой группы, которой предлагали только 75$, смогли продать кофемашину в среднем за 129$, а участники остальных групп – в среднем за 92$ (рис. 2). Причем, на результат не влияло, были ли предложенные варианты выше, равны или ниже того единственного, что предлагался первой группе.
Получается, продавцы с тремя вариантами цены, демонстрировали предвзятое отношение, что привело к ухудшению показателей продаж почти на 30 %. Все это позволяет утверждать, что безусловная вера в человеческую рациональность и игнорирование бессознательных факторов, влияющих на решения, могут дорого стоить любому переговорщику.
С точки зрения механизма восприятия, один вариант часто рассматривается как нечто случайное. А три варианта воспринимаются мозгом в качестве доказательства, что справедливая рыночная цена находится в районе среднего значения предложенных трех цифр. Поэтому любое ее превышение – уже огромная удача. Такие бессознательные установки мешают сделать более высокое по цене предложение покупателю.

Рис. 2. Множественные варианты не помогают выбирать лучшее решение.
Что делать? При обсуждении цены помнить, что все предложенные варианты – это не справедливая рыночная цена, а всего лишь три достаточно плохих варианта.
Далее я расскажу о свойствах психики, которые помогут повысить эффективность любой коммуникации и поменять расстановку сил на переговорной «доске» в вашу пользу.
Но прежде чем перейти к детальному рассмотрению этих техник, предлагаю разобраться, какие особенности мозга не позволяют нам быть полностью рациональными и навсегда оставляют открытыми «порталы», через которые все продолжают влиять на всех.
Сознательное и бессознательное
С XVIII века во многом благодаря трудам основоположника классической экономики Адама Смита человека начали воспринимать (и порой воспринимают до сих пор) как рациональное существо. Считалось, что индивид принимает решения, исходя из единственной цели – преумножить личные ресурсы и активы, он рационален и не совершает импульсивных поступков. Однако вы уже убедились, что эти теории не всегда подтверждаются на практике.
Чистая рациональность противоестественна для человеческого мозга, и рассмотренные ранее примеры это подтверждают. Далеко не всегда можно заставить себя мыслить логически, даже если это выгодно. Вероятно, поэтому существуют марафоны счастья, экстрасенсы и вера в приметы. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад», – писал великий лирик.
Несмотря на все когнитивные способности и стремление к рациональности, мысли и поступки людей зачастую остаются неоднозначными и зависят от общего физиологического состояния, гормонов, эмоций, событий вокруг и много чего еще.
Мы принимаем бесчисленное количество решений ежедневно. Некоторые – неторопливо и обстоятельно, другие – спонтанно и мимолетно. У нас есть невероятная способность к планированию и обучению, сложный язык, оперирующий абстрактными терминами и неистощимое любопытство. И справиться со всем этим нам помогает пластичный и сложный мозг.
Нервная система живых организмов и головной мозг, эволюционировали от способности распознавать полезные и опасные сигналы на уровне эмоций до формирования сложных социальных связей, логического анализа, долгосрочного планирова-ния и т. д.
Эволюция вручила нашей нервной системе особенности строения и функционирования мозга дальних предков. Они передали нам части своих ДНК, зародившихся десятки миллионов лет назад. За это время внешний облик человека сильно изменился. Столкнувшись с пращурами, мы бы скорее приняли их за сородичей белки или недообезьян. Но нам достались их гены, пусть и сильно измененные. Именно этим «наслоением» объясняется сложность нашего поведения и зачастую его противоречивость. В нас нет ничего, предназначенного для решения дифференциальных уравнений или расчета денежного потока по бизнес-проекту. Но есть все необходимое, чтобы выжить в условиях дикой природы.
Поэтому, например, многим желающим похудеть приходится каждый раз преодолевать серьезный внутренний конфликт. Бессознательное желание съесть кусок торта подкреплено в нас стратегией естественного отбора: мгновенно поедать все, что сулит быстрые углеводы и содержит много жиров. Ведь такой пищи нет в достатке в живой природе. Поэтому на уровне подсознания организм считает, что торт поможет нам выжить. Но ему противостоит рациональное желание похудеть, связанное с культурными стандартами красоты и лучшим пониманием факторов долголетия, которые появились всего несколько десятилетий назад. И тут конфликт сознательного и бессознательного не может разрешаться одинаково: иногда побеждает торт, иногда диета.
Другой пример. Студент стремится получить высокую оценку на экзамене, но вместо штудирования учебников хочет посмотреть сериал. Отчего противоречие трудноразрешимо? Потому что во время подготовки к экзамену, особенно если предмет тяжелый и скучный, студент испытывает стресс, заставляя себя часами сидеть на одном месте. Зато просмотр сериала сулит ему быстрый дофамин и норадреналин[4], активируя центры положительного подкрепления. Поэтому учащемуся потребуется подключать дополнительные силы, договариваться с собой, чтобы удовлетворить оба своих желания.
Человеческая противоречивость подробно описывается концепцией принятия решений, которую предложили Амос Тверски[5] и Дэниел Канеман[6]. Они выделили в ней две системы.
Система 1 – быстрый, эффективный механизм реагирования на внешнюю среду, не требующий затрат энергии на использование. Он отлично подходит для решения привычных задач, но провоцирует множество разнообразных ошибок. Так, именно Система 1 диктует решение убежать с проезжей части, когда по ней несется автомобиль; отдернуть руку от горячей плиты или утюга. Но она же отвечает и за совершение импульсивных покупок.
Система 2 – неповоротливый, взвешенный, энергоемкий и точный механизм принятия решений. Он позволяет планировать, игнорируя эмоции, и мыслить абстрактно. Например, Система 2 помогает выполнять сложные вычисления, планировать расписание поездки в отпуск, выбирать автомобиль или компьютер, опираясь на сравнение разных характеристик.
Обе системы работают вместе, но не всегда сообща. Каждую секунду они борются за контроль над нашими мыслями, решениями и действиями. В результате их взаимодействия и конкуренции человеческое поведение порой превращается в смесь невероятной рассудительности и взбалмошности. Этот эффект отлично показан в сериалах «Триггер» или «Психологини»: психотерапевт помогает людям решать проблемы или выстраивать здоровые отношения, в то время как сам несчастен.
В Системе 1 расположена миндалина – крупная структура, которая отвечает за агрессию и сексуальное влечение, страх и тревожность, эмоциональный интеллект и социальное поведение.
Когда вы видите впервые нечто страшное и отвратительное, теряете деньги или совершаете серьезную ошибку, миндалина реагирует, и вы испытаете гамму неприятных эмоций. Кроме того, она подчеркивает события, которые стоит запомнить, связываясь с нашим чертогом памяти – гиппокампом. Вот почему хороший способ учиться – пробовать и ошибаться. Миндалина поможет запомнить горечь негативного опыта. Именно поэтому с ранних лет, а потом и во взрослой жизни, ничто так не обогащает нас опытом и новыми знаниями, как работа над ошибками.
Примером «игры с миндалиной» в переговорах может служить техника «дверь в лицо». Сначала клиенту предлагают товар по немыслимой стоимости, и он испытывает целую палитру негативных эмоций. Но тут же цену сбрасывают: «только до 5 марта скидка 50 %». Человек успокаивается и становится более податливым к уговорам.
На уровне мозга это выглядит так: сначала активность миндалины резко увеличивается, а после предложения значимой скидки, снижается, увеличивая тем самым вероятность продажи. С точки зрения Системы 1, благодаря второму предложению мозг преодолевает сложную неприятную ситуацию, а значит, нужно срочно запомнить этот опыт и подкрепить его положительными эмоциями: согласиться на сделку. Но если первоначальные требования чрезмерно высоки, миндалина подаст слишком сильный сигнал и «хлопнут дверью» уже перед носом продавца.
В Системе 1 рождаются зависимости от азартных игр: расположенный в этом месте участок мозга хочет всего и сразу, прямо сейчас, а потом – хоть потоп. Именно здесь формируется соблазн: «Ну, давай, еще одну серию любимого сериала – и точно спать». И собственно этот соблазн всеми силами сдерживает Система 2.
С одной стороны, Система 1 способна отправить нас в долговую кабалу и ввергнуть в зависимости, с другой – дает силы идти к мечте и чувствовать любовь к близким.
Система 2 отвечает за способность к взвешиванию альтернатив, помогает сравнивать и оценивать исходы, вносить поправки в ожидания, если ситуация меняется, участвует в построении моральных суждений, рассматривает как абстрактные выгоды (деньги), так и прямые – вроде пищи или ласки.
Поэтому когда Система 1 подкидывает идею повеселиться всю ночь с друзьями на вечеринке вместо сна, Система 2 настойчиво твердит: «Завтра встреча со сложным клиентом, если не отдохнешь, не сможешь нормально провести переговоры, и сделка сорвется».
Эта система не позволяет соглашаться на невыгодное предложение, предупреждает не лезть в драку и даже заставляет чистить зубы по утрам и вечерам. Можно сказать, она как опытный шахматист: не спешит и рассчитывает действия на много ходов вперед. Но как только ее контроль над нашим поведением из-за усталости, голода или стресса6 ослабевает, в дело вступают бессознательные автоматизмы, щедро предоставляемые Системой 1. Как раз они определяют наше поведение в изменившихся условиях.
Система 2 помогает отладить поведение, отреагировать на смену ситуации и приспособиться к ней. Она обрабатывает результаты действий и вносит поправки: когда вы несколько раз по пути на работу проходите мимо ямки на тротуаре, запоминаете, где она расположена, поэтому даже если будете идти в темноте, по памяти обойдете это место.
Прямо сейчас предлагаю сделать первый шаг к построению фундамента переговорного влияния – двум суперсилам, с помощью которых можно добиваться невероятных результатов.
Две суперсилы социального взаимодействия
Итак, вы уже убедились, что люди часто принимают иррациональные решения. Но если они такие нелогичные, как человечеству удалось дойти до нынешней стадии прогресса? Несмотря на несовершенства работы мозга, в нас заложено большое преимущество – способность кооперироваться с другими и договариваться ради достижения общей цели.
Человек – сверхсоциальный примат. Природа и естественный отбор сделали из него гения кооперации. Он смог вырваться на вершину эволюции благодаря умению сотрудничать с другими представителями своего вида. Даже привычные нам вещи, такие как банан на полке магазина или денежный перевод через смартфон, требуют постоянной координации усилий миллионов людей по всему миру. Чтобы этого достичь множество поколений передавали друг другу ресурсы, знания и прочие плоды своих трудов.
Люди научились летать по небу и дышать под водой, освоили все континенты и сейчас думают о покорении других планет. Мы не только ведем конкурентную борьбу с бактериями и вирусами, изобретая антибиотики и вакцины, но превратили в союзников некоторых из них: научились обращать свойства бактерий во благо в различных областях от пищевой промышленности до генной инженерии. И все эти достижения – плод групповых усилий. При этом социальность ни в коей мере не умаляет значимость личности.
Через механизмы индивидуального и группового отборов природа сделала людей взаимозависимыми, добилась, чтобы мы принимали правила эффективного группового поведения как на уровне культуры, так и на уровне нейрофизиологии.
Кроме того, природа наделила нас одной из крайне важных «фич» мозга – умением разделять сородичей по логике «свой – чужой».
Суперсила симпатии и измерение «свой – чужой»На уровне нейрофизиологии в нас заложена автоматическая система распознавания «свой – чужой». Именно она управляет нашим поведением. Помимо рациональных факторов и зашитых в мозг автоматизмов, наши решения зависят от эмоциональных реакций. То есть уровень и глубина отношений между людьми влияют на уступчивость человека.
Программы уступчивости встроены в гены. Эволюция сделала нас готовыми идти на бессознательные уступки даже во вред личным интересам, если о них просит авторитет или значимый человек.
Поэтому мы готовы бесплатно отдать почти новый шоссейный велосипед хорошему другу, который, как и мы когда-то, готовится к своим первым соревнованиям по триатлону, но пока не может позволить себе купить собственный. Хотя еще час назад мы договорились о продаже велосипеда незнакомцу, позвонившему по объявлению. Нам проще отказаться от хорошей сделки, чем жить с осознанием, что мы могли, но не захотели помочь близкому человеку.
И наоборот, я был свидетелем, как крупная сделка по продаже доли в бизнесе сорвалась из-за незнания чужих футбольных пристрастий. В процессе общения покупатель начал крайне иронично высказываться о спортивных успехах любимой команды своего будущего партнера, превознося при этом другой клуб, фанатом которого он был. И в мгновение ока эмоции заслонили всю потенциальную выгоду от сотрудничества и перечеркнули не только готовность идти на уступки, но и в принципе договариваться.
Мы готовы проявлять уступчивость не только в отношении ближайших родственников: иногда нам достаточно весьма отдаленного сходства или простой демонстрации открытости и доброжелательности со стороны собеседника, дабы считать его «своим» и пойти навстречу.
Пример подобного отношения описывает работа профессоров Кима Клаэса и Балагопала Виссы7. Исследование показало, что индийские венчурные инвесторы[7] оценивали стартапы, основанные выходцами из своего региона, на 195 тыс. долларов дороже остальных проектов. Это на 4,7 % выше среднерыночной оценки аналогичных проектов. И дело не в особенном менталитете индийских коммерсантов, аналогичные исследования со схожими результатами есть и по другим странам8.
Казалось бы, что такое 4,7 %? Но когда эти «небольшие» проценты превращаются в сотни тысяч долларов прибыли, которые можно получить просто из-за случайного фактора (сходства с собеседником), маленькие цифры обретают большую значимость
Думаю, вы уже догадались, почему бессознательные механизмы уступчивости срабатывают с профессионалами, которые точно умеют считать деньги. Снова причина в нейрофизиологии.
Как я говорил ранее, предки, передавшие нам гены, решали прежде всего задачу выживания. И поскольку выживать в одиночку почти никому не удавалось, они начали объединяться. Но тогда возникла еще одна задача – коллективного выживания. Достичь этого можно было приумножением потомства и заботой о его будущем.
Так сформировался «партнерский» мозг, который и сейчас требует, чтобы мы поддерживали «своих» и не тратили ценные ресурсы на «чужих». Поэтому у нас всегда одни правила для близких и другие – для остальных. «Друзьям – все, остальным – закон», – как говорили в XX веке.
К «своим» обычно мы хорошо относимся, помогаем им и поддерживаем, порой готовы поделиться частью собственных ресурсов или сокровенными тайнами. Для «своих» ничего не жалко. Тогда как с «чужими» мы держимся настороженно, поскольку раньше мозг воспринимал их как врагов, с которыми «свои» боролись за ресурсы и выживание. В результате отношение к «чужим», как, впрочем, и «своим», не совсем объективно.
На те же суперсилы «свой – чужой» опирается концепция общинных и обменных отношений[8]. В обменных отношениях, с «чужими», доминирует эгоизм. Участники приносят пользу друг другу по принципу – ты мне, я тебе. А в общинных отношениях, со «своими», в основе лежат уступчивость и забота о благополучии другого.
Разделение людей на «свой – чужой» работает в нашей голове через симпатию и антипатию и весь спектр эмоций между ними – от обожания до отвращения.
При первом контакте с человеком бессознательно и почти мгновенно формируются определенные эмоции и убеждения. Именно они определяют дальнейшее взаимодействие в зависимости от того, воспримет наш мозг этого человека как друга или как врага.
Если для предков взаимодействие в парадигме «свой – чужой» было одним из ключевых вопросов выживания, то сегодня этот вопрос, хоть и не затрагивает наше физическое существование, до сих пор напрямую влияет на экономическое благополучие и успех в переговорах. Ведь во многом именно от того, как много успешных людей доверяют нам, сколько из них готовы обмениваться своими идеями и ресурсами или хотят стать нашими деловыми партнерами, зависит решение масштабных задач, требующих кооперации многих людей, обладающих уникальными, но взаимодополняющими навыками.
Общение со «своими» рождает чувство доверияДа, доверие – тоже изобретение эволюции, связанное со снижением активности центров критического мышления. И для группового выживания оно имеет огромное функциональное значение.
В условиях дикой природы смысл взаимного доверия сводился к быстрой передаче вербальной и невербальной информации между членами одного племени. Это позволяло без промедления реагировать на сообщение о событии от близкого человека, как если бы мы сами были его свидетелями. Благодаря чему группа могла мгновенно собираться для борьбы с непрошенными гостями или, наоборот, спасаться бегством при поступлении сигнала тревоги, или выдвигаться на охоту за добычей, которую приметил соплеменник за километры от поселения и т. д.
Вместе с тем доверие не утратило актуальности и в современном мире. Например, оно помогает снижать трансакционные издержки[9], которые ухудшают качество обмена информацией и ресурсами.
Чтобы понять, как трансакционные издержки влияют на реальную жизнь, представьте, что у вас есть партнер, с которым вы 10 лет ведете успешный бизнес. У вас общие активы, вы дружите семьями и, конечно, доверяете друг другу. Поэтому вы можете запускать совместные проекты, не утруждая себя избыточным документооборотом. Ведь слово партнера для вас значит больше, чем любой подписанный документ. Результат такого взаимодействия: переход от идеи к реализации занимает дни, а иногда часы.
Но вот вы решили заключить крупный контракт с незнакомым человеком. С какой вероятностью, прежде чем подписывать договор и даже вступить в обсуждение условий, вы захотите навести о нем справки? А насколько детализированным, продуманным и сложным будет договор, чтобы гарантировать ваши интересы? И сколько в итоге временных и материальных ресурсов вы потратите на такую сделку?
Как показало исследование экономистов Пьера Кауха и Яна Албера, проведенное в 2013 году[10], уровень доверия в обществе – один из важнейших факторов современного экономического роста. Так, если бы уровень общественного доверия в России был таким же, как в Швеции или Норвегии, наш ВВП был бы выше на 69 %! Почему? Потому что снизились бы те самые трансакционные издержки, которые мешают эффективному сотрудничеству, в том числе обмену опытом, ресурсами и просто эмоциональной поддержкой.
Но у симпатии и связанного с ней доверия есть и темная сторона: они делают человека уязвимым и зависимым. Проблема защиты от злоупотребления доверием настолько значима, что находит отражение в уголовном кодексе, например ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы до 10 лет за хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.
Приведу кейс, ярко иллюстрирующий силу измерения «свой – чужой»[11].
Я несколько недель вел переговоры с главой крупной компании по совместным инвестициям в проект в сфере стрессовых активов. Обсуждение условий шло тяжело и казалось, будто у потенциальных партнеров не было реального интереса к нашему предложению, несмотря на очевидную выгоду, которую он сулил.
Все изменилось, когда я решил обсудить эту проблему с хорошим товарищем, с которым мы познакомились в одном бизнес-клубе.
– Так что ж ты раньше не сказал? Владелец этой компании мой старый друг, мы учились с ним в универе. Давай я вас познакомлю?
Я, конечно же, согласился, и уже через два дня мы встречались вчетвером: на моей стороне был товарищ-одноклубник, а напротив нас сидели генеральный директор компании и сам владелец бизнеса – назовем его Николай. Атмосфера больше напоминала встречу хороших приятелей, нежели деловые переговоры. Николай в шутливой форме упрекнул меня, что я не рассказал про общего знакомого и не вышел на него напрямую. Оказалось, что в их компании менеджмент не принимает такие решения и они не заходят в партнерства, если лично не знакомы с человеком, либо если у них нет общих друзей. И общались со мной до этого лишь из любопытства и уважения.
Уже на той встрече мы договорились о ключевых условиях партнерства и ударили по рукам. Первые деньги в совместный проект пошли спустя всего несколько дней после знаменательной встречи, тогда как документы, подтверждающие наши устные договоренности, готовились юристами еще несколько месяцев. И до момента их подписания, единственной гарантией договоренностей были наши слова, репутация и общий знакомый, отрекомендовавший нас друг другу.
Это отличный кейс не только с финансовой точки зрения – он позволил выстроить фундамент отношений с новым партнером для запуска будущих проектов уже без траты времени на формальные переговоры и определение наших позиций. Мы открыто озвучивали свои интересы и искали точки пересечения, при которых вместе нам выгоднее, чем по отдельности.
Суперсила авторитета и измерение «лидер – подчиненный»Впрочем, измерение «свой – чужой» не единственная «фича» нашего мозга. Есть еще один важный феномен для успешного ведения переговоров. Это измерение «лидер – подчиненный». В его основе лежит иерархичность социальной структуры и склонность подчиняться силе авторитета. Как это работает?
Начнем с проверки вашей интуиции.
В больничном шкафу хранится неизвестный медсестре препарат, на его упаковке крупным шрифтом отмечена предельно допустимая доза. На сестринский пост поступил звонок незнакомого человека, который представился доктором и сказал дать пациенту госпиталя этот препарат в дозировке, вдвое превышающей допустимую. Как считаете, сколько медсестер ответили отрицательно на вопрос: «Вы бы дали в такой ситуации препарат пациенту?»
«Почти все» или «Большинство» – кажутся самыми разумными вариантами ответа. И это вполне объяснимо. Кто в здравом уме будет нарушать должностные инструкции и подвергать жизнь другого человека опасности?
Вот только в реальности все происходило с точностью до наоборот: 95 % медсестер, которым звонил незнакомец и назывался доктором, давали пациенту препарат в запрещенной дозировке.
Если вы думаете, что это выдуманный пример, вынужден огорчить. Таковы результаты эксперимента, который провел в условиях реальной клиники в 1966 году американский психолог Чарльз Хофлинг9. Почему же медсестры так поступили?
Во-первых, как вы помните, человек лишь отчасти рационален. И решения, которые в спокойных условиях подсказывает разум, или Система 2, далеко не всегда будут воплощены при стрессе, когда к регулированию поведения подключится Система 1, отвечающая за бессознательную часть нашего мозга и автоматические реакции. И тут всплывает вторая причина парадоксальных результатов этого эксперимента.