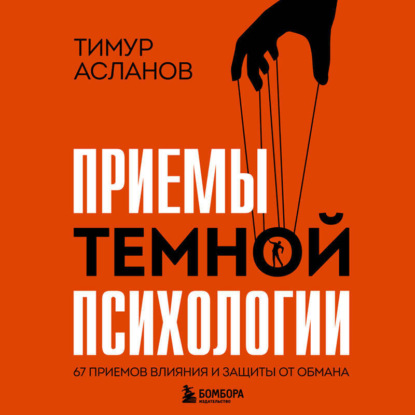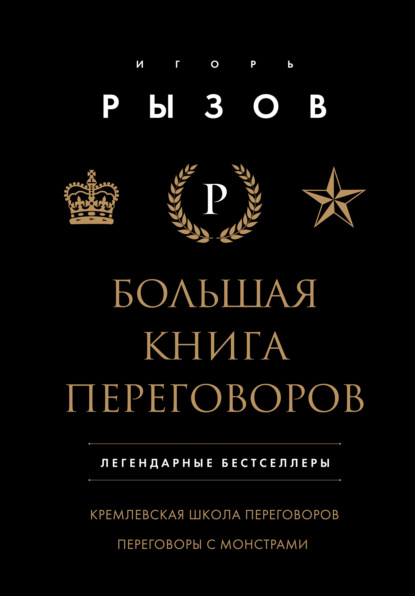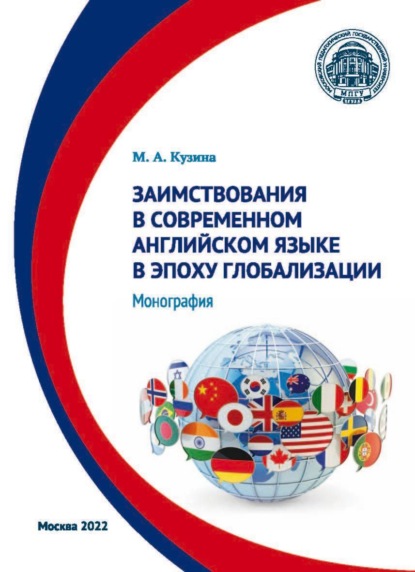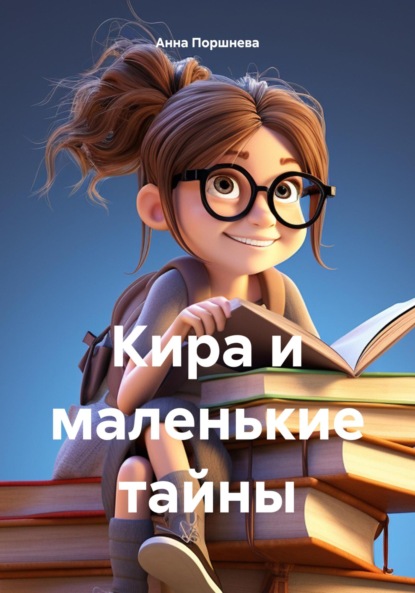Нейропереговоры. Как добиваться своего, используя науку о мозге

- -
- 100%
- +
Одна из типовых автоматических реакций нашего мозга – подчинение воле авторитета, человека, по мнению нашего мозга, наделенного незримой властью принимать решения за других в конкретной ситуации. Эта свойственная людям автоматическая реакция отключила у медсестер критическое восприятие и выдала вымышленному «доктору» власть над их поведением. Для бездумного выполнения чужих, опасных для жизни пациентов требований оказалось достаточно трех факторов:
1) незнакомец назвал себя доктором;
2) он знал место, где лежат медицинские препараты в отделении;
3) ранее доктора также пользовались своим статусом и в нарушение установленных регламентов давали указания медсестрам по телефону.
Но для чего природа создала такую коварную уязвимость в нашем мозгу?
В дикой природе у социальных существ неизбежна внутригрупповая конкуренция, которая связана с риском насилия по отношению друг к другу. И чтобы избежать войны «всех против всех», в дело снова вмешалась эволюция и «придумала» иерархию. Она позволяет сильным без насилия зафиксировать привилегированное положение по отношению к более слабым членам группы. В обмен на обуздание агрессивных позывов лидер получает право на бо́льшую часть добычи. Однако любое неподчинение воле сильнейшего рассматривается как грубое нарушение негласного социального контракта. Поэтому разрешает сильнейшему, чьи права нарушены, защитить их всеми доступными средствами. Так появилось разделение участников группы в парадигме «лидер – подчиненный» – второй главной силы влияния в переговорах.
Современная европейская цивилизация провозглашает равенство всех людей, однако такой подход лишь отчасти соответствует нашей биологии. Люди – социальные животные. Наше общество и эгалитарно[12], и иерархично. И хотя мы порядком заплутали в горизонтальных и вертикальных связях, на подсознательном уровне мы быстро понимаем, кто перед нами – равный или нет. Только вот место наверху социальной иерархии достается уже не только самому физически сильному.
В современном обществе вершину социальной пирамиды занимают либо те, кто может привести социальную группу к успеху и пользуется поддержкой большинства ее членов, либо те, кто способен, объединив вокруг себя самых опасных представителей своей группы, создать такой потенциал насилия, который будет держать в страхе и повиновении остальных. И, конечно, умение балансировать между двумя этими высшими точками дает большие преимущества претенденту на роль лидера.
Успешная работа в группе возможна благодаря, во-первых, способности людей определять того, в чьих силах привести их к результату, во-вторых, готовности остальных следовать за лидером.
Как и в случае со «свой – чужой», основы в системе «лидер – подчиненный» заложены в бессознательной части разума – Системе 1. Но осознание этого происходит через Систему 2, отвечающую за восприятие контекста. Поэтому при встрече с человеком, которого вы считаете «главным» в конкретном контексте, в мозге происходят определенные процессы. Активируется миндалина как при столкновении с опасностью, усиливая активность зон, отвечающих за усвоение информации. При этом снижается работа участков, связанных с критическим мышлением – так возникает эффект доверия, как если бы этот человек был «своим».
Когда собеседник выше по социальному положению и владеет большими ресурсами, в организме происходят процессы, которые заложены генетически.
Во-первых, возникает естественное чувство страха: мозг считает, что противопоставление себя лидеру равносильно конфронтации со всей группой, а условное изгнание из группы тождественно смерти. Во-вторых, стоит пользоваться каждым моментом, чтобы учиться у лидера. Так как у того, кто повторяет, повышаются шансы достигнуть аналогичных результатов. На эмоциональном уровне такая потребность сопровождается чувством восхищения и благоговения перед авторитетом во всех возможных вариациях.
И даже если не задумываться о причинах страха и готовности беспрекословно слушать чужие указания, Система 1 активирует протоколы общения с лидерами, заложенные миллионами лет эволюции, а Система 2 с трудом может влиять на это.
Иерархия – неотъемлемая часть жизни, и мозг постоянно оценивает, какое место человек занимает в обществе, на социальной лестнице.
Большой начальник, уважаемый человек, лидер – эти статусы показывают желанное положение в системе, социальной иерархии, которая определяет, как нас воспринимают другие.
Статус дает доступ к управлению групповым поведением и к добытым ресурсам. В то же время эти блага действуют ровно до момента, пока человек занимает соответствующее место в иерархии.
Социальный статус оценивается по многочисленным признакам, начиная с военных знаков отличия и заканчивая маркой часов. Когда вы понимаете, что статус собеседника выше вашего, становитесь уступчивее, даже если причины высокого статуса малозначимы.
Но высокий социальный статус не будет влиять на поведение группы без еще одного важного элемента – текущего контекста. Именно он активирует групповые нормы, которые устанавливают права высокостатусных лиц и других участников. Сам по себе статус не дает прав на управление чужим поведением. Для этого требуются сигналы, улавливаемые членами группы из контекста, именно они незримо узаконивают права авторитета.
Разберем на примере.
Представьте, к вам посреди оживленной улицы подошел человек в белом халате и потребовал раздеться по пояс. С какой вероятностью вы повинуетесь этому требованию? Вероятно, нулевой. Если только требование не будет подкреплено угрозой, например пистолетом. А теперь вообразите, что слышите эту же просьбу от человека, который сидит в кабинете в поликлинике, а вы пришли к нему на прием. И уже в новом контексте сопротивляться требованию будет равносильно безумию. Так человек благодаря совпадению восприятия формального статуса и реального контекста стал в ваших глазах законным авторитетом.
Авторитет способен сбивать с толку, обескураживать и подчинять чужой воле куда эффективнее симпатии, и поэтому использование статусного поведения и обоснование права диктовать условия через формирование чувства вины – излюбленная техника большинства манипуляторов.
Далее в книге мы детально разберем техники влияния, основанные на силах симпатии и авторитета. Сейчас же вкратце коснемся базовых принципов, объясняющих, как и почему именно от этих сил зависят результаты переговоров.
Взаимосвязь двух суперсилДва измерения группового взаимодействия – «свой – чужой», «лидер – подчиненный» – объясняют вопросы формирования социальных связей. В любых переговорах собеседник бессознательно решает два ключевых вопроса: взаимодействует он со «своим» или «чужаком», с «лидером» или с «подчиненным». И выбор здесь проявляется через соответствующие эмоции: от доброжелательности до неприязни, от трепета до снисхождения.
Человек, желающий влиять на окружающих, умеет пробуждать, в зависимости от контекста, любовь или страх и формировать чужое подчинение через комбинацию этих эмоций.
Какие исторические личности остаются в народной памяти как подлинные лидеры? Те, кто сумел соединить две важные роли – быть одновременно «своим» и «властителем». Их образы часто уподобляются главе большого семейства: строгому, но справедливому, волевому, но заботливому.
Эта модель настолько прочно укоренилась в сознании, что даже реальные титулы правителей отражали подобное восприятие. В 1721 году Синод и Сенат обратились к Петру I с просьбой принять звание Отца Отечества. В 1767 году Уложенная комиссия присвоила Екатерине II титул Матери Отечества. А в 1936 году газета «Правда» назвала Сталина Отцом Народов.
Официальные наименования перекликаются с фольклорными образами – «царь-батюшка», «государыня-матушка», знакомыми нам по сказкам и классической литературе. Они показывают, как коллективная память мифологизирует власть, наделяя ее чертами идеального родителя: сильного, мудрого, иногда сурового, но в конечном счете – справедливого.
Эти личности вошли в историю в том числе и благодаря тому, что умели, осознанно или нет, балансировать между чувствами страха, вызываемого авторитетом, и любви, рождаемой от ощущения схожести и получаемой родительской заботы.
В современном мире ничего радикально не изменилось. Политики продолжают фотографироваться с маленькими детьми и милыми животными, делать коллективные фото с простыми людьми на посадке деревьев или на пробежке в парке и т. д. При этом в другой своей ипостаси они поддерживают ореол недоступности и почитания окружающих, ведут себя сдержанно, но уверенно и авторитетно.
Идея сочетания власти авторитета и симпатии – далеко не отечественное изобретение. Впервые формулу влияния, основанную на двух силах – любви и страха, – сформулировал почти 500 лет назад флорентийский дипломат, мыслитель и философ Никколо Макиавелли. В своем труде «Государь» он писал: «Что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись? Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно, однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх».
Вот только с тех времен и наука, и практика доказали: сочетание любви и страха собеседника – золотой стандарт социального влияния. По отдельности они не дадут такой степени влияния. Вспомните легендарную фразу, которую приписывают Аль Капоне: «Добрым словом и пистолетом вы сможете добиться куда большего, чем просто добрым словом».
К слову, научиться управлять этим влиянием не так уж и сложно. Главное, ответить на вопрос «зачем»?
Единственное правильное и эффективное использование суперсил в переговорах – облегчение формирования партнерской модели поведения у собеседника, о которой более подробно мы будем говорить в главах, посвященных переговорным фреймам. Только она позволит перейти к поиску выгодного для всех решения, позволяющего приумножить положительный результат для каждой из сторон.
Итак, давайте суммируем. Все принципы социального влияния основываются на двух базовых источниках, к которым так восприимчив наш мозг:
1) на силе симпатии, «социальном клее» для объединения нас в группы;
2) на силе авторитета, связанной с необходимостью распределения ролей в любом социуме и эффективной координации его деятельности.
Природа не создала единственно правильных подходов к управлению групповым поведением, в ней есть только работающие и неработающие решения. В зависимости от текущего контекста победителями в конкретной исторической эпохе оказывались те, кто лучше адаптировался к условиям окружающей среды, в том числе экономическим и политическим.
На вершине групповой иерархии не обязательно оказывался самый сильный и агрессивный, скорее тот, кто может обеспечить эффективную и результативную координацию в группе за счет баланса влияния через симпатию и авторитет. Это повышает эффективность действий в сравнении с конкурирующими сообществами.
Все, что касается группового поведения человека, непосредственно влияет на переговоры. Ведь это процесс, и, прежде чем договориться, мы вступаем в групповые отношения с собеседником. В большинстве случаев бессознательно, но при этом совместно мы решаем, какие правила взаимодействия установим: будем ли относиться друг к другу как к «своим» или как к «чужакам», станем ли воспринимать друг друга как равных или один получит статус авторитета, а другому придется подчиниться.
Вот почему все, что помогает стать лидером в группе, помогает и в переговорах. Все, что помогает вызывать симпатию, также работает в вашу пользу.
Таинственные «зеркальные нейроны»
Представьте, что вы в отличной компании приятелей играете в веселую игру или обсуждаете совместный поход в картинг-центр. В этот момент в помещение входит ваша подруга в явно расстроенных чувствах: поникшие плечи, слезы на глазах, выражение скорби на лице. Что случится с вашим настроением? Вы все также будете вести беззаботную беседу или ваше эмоциональное состояние поменяется? Ответ очевиден. Место былого веселья займут тревога и стресс, а также желание узнать причину печали подруги.
Но почему чужое состояние может влиять на нас? Почему мы без слов ловим эмоции собеседника? Причина все в той же нейрофизиологии, сосредоточенной на эффективном групповом взаимодействии. Эволюция снабдила нас встроенным «инструментарием», который подобно магниту невидимой силой притягивает нас друг к другу, позволяет чувствовать чужие эмоции, заставляет зависеть от окружающих, обучаться на чужом примере и эффективно взаимодействовать.
Все это работа системы зеркальных нейронов, которая существует в мозге всех социальных млекопитающих и в наибольшей степени – в человеческом. Они активируются не только когда мы сами выполняем определенное действие, но и во время наблюдения за другими.
Биологический смысл этого явления прост и гениален: зеркальные нейроны «считывают» движения и эмоции другого человека, активируя у наблюдателя те же самые мозговые центры, как если бы это делал или испытывал он сам.
Именно благодаря работе зеркальных нейронов мы сопереживаем героям фильма, похожим на нас; не можем спокойно усидеть на месте, болея за любимую футбольную команду; жертвуем на благотворительность и т. д.
При этом для Системы 1 нет принципиального отличия, что спровоцировало активацию зеркальных нейронов – прочитанная информация, расстройство близкого человека или размышления на неприятную тему. Именно поэтому общение с позитивными людьми и тренировка позитивного мышления – вполне оправданная стратегия при желании улучшить эмоциональный фон.
Система зеркальных нейронов позволяет быстро определить «своего» или «чужого». Она вводит Систему 1 в состояние, при котором мы становимся чувствительными к переживаниям «своих», как если бы сами переживали соответствующий опыт. Поэтому, помогая «своим», мы помогаем себе.
Симпатия и авторитет, две ключевые силы социального влияния, запускают еще один психологический феномен, существующий благодаря «зеркальным» способностям нашего мозга, – эмпатию. Эмпатия – это способность чувствовать и понимать эмоции других людей, и возникает она непроизвольно. При этом важно понимать, что эмпатия не то же самое, что симпатия.
Симпатия – это эмоция, которая помогает распределить «своих» и «чужих», распространяя на них позитивное или негативное отношение, а вместе с ними и правила внутригруппового поведения. Эмпатия – это психологическая и физиологическая способность к сопереживанию.
Благодаря эмпатии мы способны по неуловимым изменениям голоса, выражению лица и жестам определять, как ощущает себя человек и, самое главное, как он реагирует на наши действия. Это интуитивное чувство, отточенное эволюцией, и ему стоит доверять. Человек может говорить правильные слова и подтверждать наши надежды, но его интонация и мимика выдадут фальшь. И не просто выдадут. Мы почувствуем неискренность, ведь система зеркальных нейронов воспроизведет ровно те же противоречивые сигналы в нашем мозгу. Вы наверняка вспомните не одну ситуацию, когда по выражению лица догадывались, что малыш нашкодил, выпускник не сдал экзамен, а знакомый всячески старался не показывать, что случилась неприятность. Все это ощущается на физиологическом уровне.
Симпатия идет рука об руку с эмпатией. Как только наш мозг начинает воспринимать человека как «своего», причем иногда по косвенным признакам, он усиливает работу зеркальных нейронов, а следовательно, и степень эмпатии. Это создает новый цикл взаимного влияния, когда понимание чувств другого человека и сопереживание ему открывают дверь симпатии.
Контролируемая на рациональном уровне эмпатия помогает понять, как воспринимаются ваши слова, сонастроить поведение, изменить негативное отношение собеседника и постепенно вызвать его симпатию, а вместе с ней и доверие.
Но роль зеркальных нейронов не заканчивается переносом в нашу психику чужих эмоциональных состояний и действий. Они помогают перенимать чужое восприятие мира, тех людей, кого мы считаем авторитетами. Именно поэтому во всех культурах существуют свои ролевые модели, лидеры мнений, с которых берет пример подрастающее поколение.
Интенсивность синхронизации зеркальных нейронов с другими людьми зависит от степени вашего восприятия их близости, а также их авторитета. Чем ближе и авторитетнее человек, тем больше его эмоциональный статус и мышление влияют на нас.
И в этой закономерности кроются как возможности, так и риски. Наверняка вы помните пословицу: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. В современных реалиях эта пословица наполняется дополнительным смыслом, который побуждает бережно относиться к формированию своего окружения. Ведь оно тоже определяет наше восприятие. От близких и людей, которыми мы восхищаемся, в огромной степени зависит наш уровень жизненной энергии, наша готовность браться за новое дело, способность воспринимать неудачи как важные этапы на пути к успеху или, напротив, бессознательно стремиться избегать любых, даже малейших жизненных вызовов, чтобы защититься от разочарования, постепенно замыкаясь в себе.
Природа сделала нас взаимозависимыми, побуждая сотрудничать и общаться и наказывая за нежелание или неумение это делать. Позитивные люди, которые с уважением относятся к окружающим, думают о чужой выгоде не меньше, чем о своей, умеют играть в долгую и, естественно, объединяют похожих на себя.
И это, в свою очередь, не только создает фундамент их жизненного успеха, но и способствует долголетию, делая людей более счастливыми. В этом нет никакого мистицизма – чистая наука, подтвержденная реальной практикой.
Возможно, вы скажете: «Хорошо, я все понял про эти самые зеркальные нейроны. Но какое отношение они имеют к переговорам?» Самое прямое! Благодаря им мы можем управлять своим состоянием и тем самым влиять на собеседника, посылая невербальные и невидимые для сознания сигналы, позволяющие стать «своим» или «главным». Вот почему умение активировать чужую эмпатию, держать свои эмоциональные проявления под контролем и оставаться открытым к рациональному восприятию чужих аргументов и невербальных сигналов – важнейший фактор успеха в переговорах.
Вы можете кратно усиливать симпатию к себе, уважение к своим словам и авторитету, тем самым увеличивая силу своего влияния, если научитесь управлять собственными ментальными установками и формировать внутреннее состояние, основанное, с одной стороны, на искреннем сопереживании собеседнику, а с другой – на строгом рациональном контроле его интенсивности. И тогда ваши слова и невербальное поведение будут сильно влиять на собеседника как на уровне его Системы 2, так и Системы 1, привлекая его сознательную и бессознательную части мозга на вашу сторону. Как именно это делать, начнем разбирать уже в следующей главе.
Глава 2
Магия раппорта
Эмоции, в том числе личные симпатии и антипатии, влияют на наши решения не меньше, чем рациональные аргументы. Рассмотрим это явление на примере «Зоны возможного соглашения» (Zone of possible agreement, ZOPA), или зоны торга, термина, который часто используют в зарубежной литературе по переговорному процессу. Зона возможного соглашения – абстрактная область в переговорном процессе, в которой у сторон есть общие интересы, а также шанс на заключение соглашения, удовлетворяющее требования обеих сторон.
Например, вы хотите продать свой автомобиль не дешевле 275 тыс. рублей, а лучше – за 325 тыс. рублей. Но покупатель надеется купить вашу машину за 250 тыс. рублей, максимум – за 300 тыс. рублей. Значит, зона возможного соглашения лежит в диапазоне 275–300 тыс. рублей(рис. 3).
Умение стать «своим» и вызвать симпатию без ненужных прений и торга способно расширить эту зону в пользу того, кто обладает этими навыками. На бессознательном уровне у человека всегда есть лояльные правила для своих и более строгие для чужих. Просто представьте, как изменилась бы зона торга, если вместо незнакомца за столом переговоров о сделке с машиной оказался близкий вам человек: брат или сестра, друг или близкий коллега, одногруппник по университету или участник делового клуба, где вы состоите.
Как показывают практика и многочисленные исследования, шанс получить скидку при покупке или продать дороже, значительно повышается, если партнер считает вас «своим». Вспомните исследование, которое выявило иррациональную «щедрость» индийских венчурных инвесторов в отношении «своих» предпринимателей.

Рис. 3. Зона возможного соглашения.
Возможно ли сформулировать четкий алгоритм, который позволит быстро расположить к себе человека, чтобы он охотнее шел нам на уступки? Давайте разбираться вместе. Вы уже знаете, что мозг признает «своего» по определенным критериям. И чем большему количеству критериев человек соответствует, тем более близкими и доверительными будут его отношения с потенциальным партнером. Но прежде чем перейти к конкретным техникам формирования симпатии, нужно понять, как уровень близости, симпатии и доверия влияют на структуру общения между людьми.
Стадии развития отношений отразили в теории социального проникновения американские психологи Ирвин Альтман и Делмас Тейлор. Они предположили, что любые значимые отношения проходят через четыре стадии, которые характеризуются все возрастающей шириной и глубиной раскрываемой о себе информации, то есть процессом самораскрытия10.
На стадии ориентации собеседники знакомятся, формируя первое впечатление. Это первый контакт и непринужденная беседа на отвлеченные темы, small talk, на нейтральные и общие темы, такие как погода, дорожное движение, последние события, обсуждаемые в СМИ и прочее. Если при первом контакте складывается негативное впечатление, то на следующих стадиях становление чувства «своего» затрудняется.
На исследовательско-эмоциональной стадии собеседники узнают друг о друге личную, но не слишком интимную информацию, создавая осознанный портрет человека. Здесь в ход идут вопросы: как собеседник провел отпуск, что он посоветовал бы посмотреть в другом городе и т. д. Отношения на этом этапе становятся более глубокими. Исходя из сформированного портрета, каждый определяет «своих» и «чужих». На этой стадии пока не возникает готовности сразу помогать и проявлять альтруизм в отношении «своего», но желание развивать доверительные партнерские отношения уже присутствует.
На эмоциональной стадии собеседники понимают друг друга, делятся более значимыми вещами и, прежде всего, личными проблемами. Такое взаимодействие способствует развитию отношений – большей эмпатии и симпатии.
На этой стадии люди становятся полноценно «своими». Их отношения углубляются, увеличивается уровень взаимного доверия, и теперь они могут спокойно рассказывать друг другу о своих необычных хобби, о победах и неудачах в профессиональной и личной жизни. С этого момента они готовы помогать и совершать альтруистические поступки в отношении друг друга, то есть «своего».
На стабильной стадии отношения характеризуются глубиной, высокой степенью взаимной эмпатии, которой соответствует столь же высокий уровень взаимопомощи. На этом этапе нет запретных тем. Здесь вырабатывается свой уникальный язык общения и кодекс поведения, часто непонятный окружающим. Для достижения данной стадии требуется длительное время.
Цель в любом переговорном процессе – эмоциональная стадия. Мы не сможем подняться выше быстро, но это и не нужно. Достаточно, что возникшие на этом уровне эмпатия и симпатия будут упрощать обмен информацией, повышать вероятность альтруистического поведения у собеседника, а значит, проведение переговоров пойдет легче.
Поэтому при переходе на эмоциональную стадию важно начать обсуждать эмоционально значимые для собеседника вопросы и убрать социальные маски в его поведении, связанные со статусом и социальными ролями. Остальное сделает когнитивный диссонанс.
Значение когнитивного диссонансаКогнитивный диссонанс – это чувство дискомфорта, часто неосознаваемое и возникающее в результате противоречий между установками человека и его поведением, а также в случаях нарушения социальных норм.
Представьте, что вы идете зимой по обледенелому тротуару, поскальзываетесь и больно ударяетесь о лед. Схожие болевые ощущения, пусть и менее интенсивные, испытывает мозг, когда случается нечто, противоречащее или не соответствующее нашим внутренним установкам или усвоенным правилам (социальным нормам). Мозг воспринимает когнитивный диссонанс как боль в прямом смысле: в этот момент активируется часть, которая связана с восприятием и обработкой болевых ощущений11. И это не гипербола, а подтвержденный наукой факт.
В 2012 году нейрофизиологи из Университета Британской Колумбии Стивен Хейне и Дэйниэл Рэндлс доказали, что две таблетки обезболивающего снимают воздействие когнитивного диссонанса на процесс мышления и связанные с этим решения12.