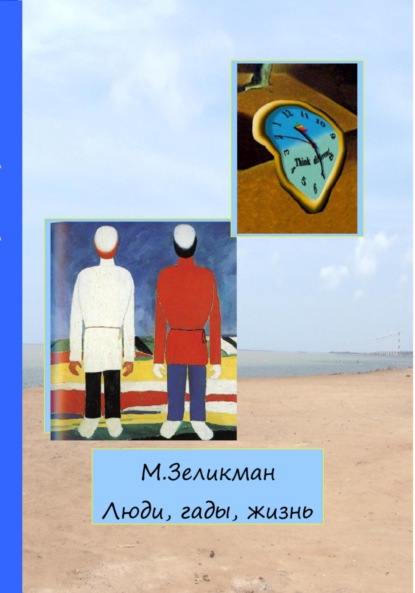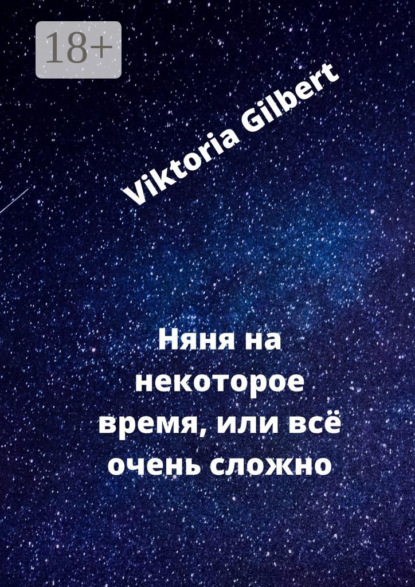- -
- 100%
- +
Еще были проблемы с черчением. Оно закончилось в девятом классе. О медали я тогда еще не думал, но на всякий случай хотел иметь в аттестате пятерку. Понимал-то я черчение хорошо, но нужной аккуратности не имел. Мои линии были чересчур жирные, частенько немного смазывались. Короче говоря, не мое это призвание. На пятерку пришлось по пять раз переделывать все чертежи, только тогда наш чертежник снизошел и поставил желаемое. Пришлось мне специально сдавать и географию. По какой-то контрольной получил пару, а по географии оценок за всю четверть раз-два и обчелся. Исправить не успеваешь. Пришлось сдавать географию России по главам: Волго-Вятский район, Западная Сибирь и т.д. Каждую неделю новую главу. Зато до сих пор помню, что в городе Энгельсе выпускали троллейбусы. А еще была железная дорога Москва-Елец-Валуйки-Луганск. И газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. И много чего еще узнал такого же полезного и необходимого для жизни.
Речь о медали конкретно зашла только в 11-м классе. Почему-то первым кандидатом на медаль считался Боря Танхилевич, наверное, потому, что он был потише, нареканий по дисциплине не имел, домашние задания всегда готовил, случайных двоек не получал. Но после первого же экзамена – сочинения – ситуация изменилась. Боря получил четверку по русскому. А надо сказать, что сочинение у медалистов перепроверялось в РОНО, так что подтасовать было невозможно. Боря никогда не был большим знатоком русского языка, так что пару ошибок он сделал. А я, весьма неожиданно даже для самого себя, получил пятерку. Вот тут-то самолюбие и взыграло. Самый трудный экзамен позади. А остальные все в моей власти! Подготовился и все сдал на пятерки. Помню это чувство ликования и удивления одновременно, когда мне вручали эту заработанную медаль.
Именно с этого момента я стал считать оскорбительным для себя получение четверки. Кстати, самый первый мой экзамен – математику в 7-м классе – я сдал на четверку. Решил-то я все быстро, за полчаса, и правильно, но там были такие моменты, как верно сформулированный вопрос к своему действию, а это давало возможности для снижения оценки. Мне было по барабану. Четыре так четыре, я тогда совсем этому не огорчился, а радостно пошел играть в футбол. А вот после выпускных экзаменов, и далее, после вступительных, во мне разгорелся этакий азарт – а вот не будет у меня четверок. И таки не было. Всего за жизнь я сдал около 70 экзаменов. Из них была одна четверка – та самая, первая, две двойки – одна на вступительных в университет и вторая, намеренно полученная в Пединституте, и остальные 67 пятерок. Это соревнование с самим собой я выиграл.
Расскажу о своей семье. Папу в жизни звали Ароном Марковичем, хотя по паспорту он был Мордухович. Тут хоть имя соответствовало, и отчество было похоже. Маму же звали Евгения Михайловна, или тетя Женя, хотя по паспорту она была Гутля Менделевна. Так часто бывало, еврейские имена старались русифицировать, чтобы не привлекать внимания.
Большую часть времени папа проводил в командировках – то в Сланцах, то в Кохтла-Ярве. Домой приезжал на несколько дней каждый месяц. Правда, на каникулы мы с мамой ездили к нему. Там было хорошо. И в Сланцах, и в Кохтла-Ярве у меня были приятели, и мы с ними славно проводили время.
Папа меня очень любил, но я был еще маленький, поэтому серьезных разговоров с ним не было. В 59-м году папа делал в Кохтла-Ярве медкарту для поездки в дом отдыха. И вдруг врач-рентгенолог обнаружил на его флюорограмме пятнышко. Чтобы снять подозрения на рак, он направил папу в больницу на обследование. Папа пролежал больше месяца в клинике Военно-медицинской академии, мы дома были в панике, ведь в то время рак – это был приговор. Но ура, вывод специалистов – это всего лишь эмфизема, доброкачественная и безобидная. Надо сказать, что папа с 13 лет курил как проклятый: 1,5-2 пачки в день, причем самых простых – «Примы», «Севера» или «Беломора». Типичное самоубийство! Курил и кашлял, кашлял и курил! Ночью и утром этот проклятый кашель курильщика! И не мог бросить! И успокаивал себя тем, что это всего лишь эмфизема – затемнение легкого. Как будто это легкий насморк, через неделю пройдет! Но главное, что врачи сказали: это не рак, значит, будем жить! И мы втроем уехали в Литву отдыхать. Но в ноябре 61-го года у папы начала болеть поясница. Думали, радикулит, грели, грели, грели…. А оказалось: метастазы из легких в позвоночник. И лечить нельзя, и надеяться не на что! Его выписали из больницы на последние две недели – умирать. Я этого тогда не понимал, мне было 15 лет. Но мама понимала. А потом отказала прямая кишка – метастаз! И мама суетилась вокруг папы, помогала ему совершить то, что все мы делаем без проблем, наедине с самими собой. Страдал даже я, несмышленыш! Как же страдала мама, понимавшая, что кончается ее беззаботная жизнь, что больше не будет защиты и опоры в лице мужа. Любимого Арона! Мы скрывали от папы диагноз, говорили, что это радикулит, что скоро пройдет. Но он понимал. Я помню, как ночью проснулся оттого, что услышал, как папа просит: «Пить! Пить!» Я принес ему воды, но он не успокоился, а снова сквозь сон говорил «Пить! Пить!» И тут я вдруг понял, что он говорит: «Жить! Жить!» И я в ужасе отступил.
Последние две недели папа был без сознания. Это хорошо, потому что не мучился. Мучилась мама. 12 февраля 1962 года в возрасте 60 лет и 3 месяцев папа умер. Утром приехала тетя Надя. Она привезла какое-то редкое лекарство из Минска. Я открыл дверь и сказал ей, что папа скончался. Она опустилась прямо на ступени, почти упала и зарыдала. Мама исстрадалась так, что у нее кончились слезы. На похоронах она не могла даже плакать. Тетя Надя даже обиделась на нее за это. Но я ее понимаю. Она пережила его смерть еще раньше, лежа одна бессонными ночами, думая о своем грядущем одиночестве, о том, как ей одной поднимать 15-летнего сына. Мой бедный папа! Моя бедная мама!
Родные говорили, что маме надо отдать меня в вечернюю школу, чтобы я и деньги в дом приносил, и стаж заработал для поступления в институт. Мама сказала, что она верит в меня, что я и без стажа поступлю, что она сделает все, чтобы я получил достойное образование. Я продолжал учиться в дневной школе. Мама получала за папу пенсию 38 рублей в месяц, я до 18 лет добавлял к этому еще 19 рублей. На 57 рублей было не прожить. Брат присылал 30 рублей, столько же давала тетя Надя. Сдали угол парнишке моего возраста, Мартин жил со мной в одной комнате. Кроме того, уже в институте я подрабатывал на рыбном холодильнике, разгружая вагоны. Об этом я тоже писал в мемуарах. Вы-жи-ли!!!
Расскажу о брате. Когда я родился, Муле было 19 лет. Семейная история гласит, что, когда мама пошла со мной в роддом, а папа был в командировке, Муля привел к себе в комнату свою девушку Наташу. И тут вернулся папа. А дверь в комнату заперта. Папа стучит, а Муля отвечает: «Папа! Ты отвернись, а я девушку выведу». Папа отвернулся. Правда, потом Муля мне рассказывал, что ничего у них с Наташей не было. И я ему верю – другие были времена. Небось, стихи читал. Я в его годы, но в другие времена тоже такой был: вместо того, чтобы обнять и дерзнуть, предпочитал стихи читать. А может, если бы он не проявил этой бесхарактерной романтичности, то и женился бы на этой Наташе (маме она очень нравилась), и не уехал бы в свой Ангарск, и все было бы иначе.
Но он уехал. В 49-м году окончил свой техникум газовой промышленности и уехал строить новый город Ангарск, а в нем крупнейший нефтеперерабатывающий комбинат. Мне было 3 года. Поскольку брат уехал, то можно считать, что я рос как единственный сын. Он любил и меня, и родителей, ему доставляло большое удовольствие гулять с мамой и со мной в ЦПКО, так что окружающие думали, что мама – это моя мама, а он – это мой папа. Я это знаю со слов мамы. С самого раннего детства я брата видел очень редко, может быть, раз в пять лет, а то и реже – все-таки Ангарск очень далеко. Но всю жизнь я знал, что у меня есть брат, и любил его на расстоянии. Каждый его приезд был праздником. Помню, один раз он купил сразу 10 пирожных, что потрясло мою детскую душу – ведь я привык экономить, то есть каждое купленное мне пирожное разделять на кусочки и есть в несколько приемов. Но мой брат – волшебник, человек из другого мира!
В Ангарске Муля сделал карьеру. Он за несколько месяцев дошел до должности начальника цеха. Потом произошла какая-то неприятность, он что-то от кого-то скрыл, за что был разжалован до помощника начальника участка. И снова за полгода он поднялся до начальника цеха. Потом он вошел в списки советской номенклатуры и стал зам. главного инженера комбината Ангарскнефтеоргсинтез. Когда строился киришский комбинат, Муле предложили пойти туда главным инженером. Он приезжал в Ленинград в 1977 году, провел здесь целый месяц, познакомился с Киришами и в итоге отказался. В Ангарске все свои, все спокойно, все налажено, а тут надо сражаться и доказывать. Он предпочел спокойствие и остался в Ангарске.
Еще один важный момент. Летом 1965 года Муля приезжал в Ленинград. В это время у меня как раз были важные события в институте. Поскольку меня не хотели переводить на дневной, то я забирал документы с вечернего и шел заново поступать на 1-й курс дневного. Муля был удивлен этим решением, он говорил, что не надо гневить бога – уж если учишься, то учись, хотя бы на вечернем. А я ему отвечал, что надо ставить серьезные цели и бороться за их выполнение. Я таки забрал документы и таки поступил на дневной. Впечатлившись этими событиями, Муля, которому было уже 38 лет, вернувшись в Ангарск, поступил на подготовительные курсы, на следующий год поступил в институт и окончил его за 4 года. Молодец! Поставил цель и добился! Ему это действительно было нужно – он был уже главным метрологом комбината и без высшего образования рисковал не удержаться.
Курил он много, как папа. Те же 1,5-2 пачки в день. Помню, когда Муля был в Ленинграде в 1977 году, мы с мамой на него насели, чтобы бросал курить. Все зря. Он говорил о Черчилле, который со своей сигарой прожил до 90 лет, и о тех, кто не курит и умирает в 40. Короче говоря, “оставьте мне эту единственную радость”. В 81-м году у него был первый инфаркт. Он сразу бросил курить, но сердце было уже изношено. Он ведь и курил, и весил 110 кило, и работа была нервная, и спортом не занимался с юных лет. Полный набор! В марте 86-го уже после смерти мамы у него был второй инфаркт. И все! Я ездил на его похороны. Гроб стоял в актовом зале комбината, мимо него шли люди, прощаясь со своим руководителем. И я сказал на поминках: “Ему было 58 лет. Если бы он прожил еще 5 долгих лет, ему было бы всего 63. А если бы еще 10, целых 10 лет, то ему было бы всего 68. А если бы 15, или 20, или 25, целую жизнь еще одну, то и это не виделось бы невозможным. Вот такая несправедливость!”
Его жена Женя пережила его всего на год. Все-таки там, в Ангарске, наверное, нездоровая экология. Люди умирают рано. Кстати, когда один из моих друзей Женя Коварский женился во второй раз, и его жена Света упомянула дома мою фамилию, ее отец сказал, что в юности учился в одной группе с неким Самуилом Зеликманом. Оказалось, что Абель Ильич Быховский был приятелем моего брата и даже вместе с ним был распределен в Ангарск в 49-м. Но, будучи практичным человеком, он нашел способ достаточно быстро вернуться в Ленинград. Максимум, чего он достиг в Ленинграде, была должность ведущего инженера, но зато он жив и сейчас, то есть пережил моего брата уже на 27 лет. Они с женой живут в Хайдельберге, тихом и красивом немецком городке. Ходят, дышат, радуются жизни. А Муля, как Павка Корчагин, всю жизнь выполнял свой долг и гордился своими почетными грамотами. Вот тут и думай, и выбирай…
Когда изредка мой брат приезжал в Ленинград, мама пыталась уговорить его вернуться. Она даже подыскивала для него невесту. Но он предпочел остаться верным своей Жене. Они познакомились там, в Ангарске, в 49-м, полюбили друг друга и, хотя Муля допускал эти мамины попытки вмешаться в его судьбу, они ни к чему не привели. Мама смирилась, только в 60-м году, когда у Мули с Женей родился поздний (по тем временам) сын Игорь. Он закончил строительный факультет Иркутского политеха. У него есть дочь Инга (1990) и двое внуков: Лена (2009) и Лорин (2012). В 2002-м году его семья уехала в Германию. Но там им не понравилось, и они переехали в Израиль, где и живут в настоящее время.
У меня есть дочь – Вероника (1983). Она окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Романские языки». Первый ее язык (после русского) – итальянский, второй – французский, третий – английский и четвертый – испанский. Она преподает в университете итальянский язык, а также водит итальянские группы туристов по Санкт-Петербургу. Она замужем. Ее муж Дмитрий Котенко (1976) окончил философский факультет того же университета, но сейчас занимается строительным бизнесом. В 2016 году у них родилась дочка, моя прелестная внучка Лиза.
И снова об именах. Вероника получила свое имя в честь родителей ее мамы. Их звали Вера и Николай.
3. Хочешь учиться на вечернем – работай!
Теперь, когда вы узнали всё о моем детстве и отрочестве, вернемся на историческую линию моей биографии. Итак, «после целого ряда перипетий» я поступил на вечернее отделение политеха. По советским законам человек, учащийся на вечернем отделении, обязан работать. Или, как минимум, принести справку о том, что работает. В моем случае финтить было нельзя – семье были нужны деньги. После смерти папы (12 февраля 1962 г) жили мы с мамой весьма скромно. Она получала пенсию по потере кормильца – 38 рублей в месяц, и я – 19 рублей. Правда, брат присылал ежемесячно 30 рублей, но этого, конечно, было мало. Поэтому, например, самыми вкусными конфетами мы всегда считали «Кавказские», потому что килограмм стоил рубль пятьдесят. Надо сказать, что рассматривался вариант сразу поступать на вечерний, чтобы я мог зарабатывать, и даже, более того, чтобы уже с 9-го класса я пошел работать и учиться в вечерней школе. Тогда я бы кончал не 11 классов, а 10, да и поступать в ВУЗ было бы легче со стажем работы. Некоторые мои знакомые так и сделали. Но мы с мамой обсудили эти варианты и, понимая, что вечернее образование качественно хуже дневного, решили, что я должен получить максимально хорошее образование, пусть ради этого и придется потуже затянуть пояса. Считаю, что это было правильное решение, и буду всегда благодарен маме за это.
После зачисления на вечерний мы должны были принести справку о работе. Мама позвонила папиным знакомым и попросила помочь мне устроиться на работу. Папу все уважали и помнили, маму тоже все знали, поэтому 2 октября 1964 года я без проблем был зачислен на работу техником в Специализированное управление пуско-наладочных работ (СУПНР) Газпрома СССР. То есть я работал в Газпроме! Сейчас мне бы все завидовали, а тогда это было весьма скромное учреждение. Оклад мне положили 85 рублей. Вот так началась моя трудовая жизнь.
Начальником моим стал Миша Агрон, добрый знакомый моего папы, которого я знал с детства. Относились ко мне хорошо, но работал я без каких-либо послаблений. К 8 утра на работу, до пяти, 6 раз в неделю (суббота была рабочим днем). Зарплату мне платили не зря. И она была очень не лишней в нашем семейном бюджете.
Вспоминается еще такой любопытный момент. В СУПНР работал молодой (лет 30) человек по имени Элен Рафаилович Узлянер-Негло. Я эту фантастическую комбинацию слов запомнил на всю жизнь. Близко мы знакомы не были, но здоровались. И вот в 2004 году моя жена сказала мне: «Вчера была в Газпроме у одного из начальников, у него такая интересная фамилия – Узлянер-Негло». «Элен Рафаилович?» – уточнил я. «Да, а откуда ты знаешь?» «Мы с ним вместе работали сорок лет назад. Похоже, Элен сделал карьеру?». Посмеялись и погрустили.
Но вернусь в 1964 год. СУПНР в тот момент занималось внедрением новой техники, а именно, горелок инфракрасного излучения. Это такой кирпич с дырочками, в которые поступает газ. Он сгорает вблизи поверхности, в результате чего кирпич раскаляется докрасна и служит прекрасным источником теплового (инфракрасного) излучения. Эти штуки дожили и до настоящего времени и весьма активно применяются в разных областях. А тогда это было самое начало. Мы занимались внедрением этих горелок в разные сферы жизни и техники.
Например, мы исследовали возможность сокращения времени сушки трубных покрытий. Большие трубы для разводки воды и канализации по городу перед закапыванием в землю покрывались для изоляции слоем бетона. Этот бетон должен был застыть, что требовало нескольких дней или даже недель. Мы исследовали возможность убыстрения процесса сушки путем облучения труб нашими горелками. Это совсем не так просто. Надо было выбрать расстояние до горелок, длительность облучения и т.д. Слишком близко расположишь или долго будешь греть, бетон трескается. Далеко – эффект мал. Придумали мы, помню, включать горелки на какое-то время, потом делать паузу и только затем досушивать до конца. Было это весьма интересно – почти научное исследование.
Другое применение горелки нашли на стройках. В строящихся домах и даже в завершенных, но еще не заселенных, часто происходят различные протечки. Заштукатуривать поврежденные места можно, только когда они высохнут. А это долго. Мы предложили сушить протечки нашими горелками. А поскольку это газ, то на каждом объекте должен быть представитель газовой организации, следящий за правильностью использования оборудования. Таким представителем и был я. Большую часть своего рабочего времени я провел на таких стройках. Работа была не пыльная. Мне был придан от строителей человек, который эти горелки таскал и устанавливал, а также менял баллоны с газом. Я же только при этом присутствовал. Обычно дома уже были закончены и готовы к заселению, так что строителей в них почти не было. Тишина и спокойствие. Мне это было очень удобно: сяду где-нибудь и читаю учебник. Раз в два часа обойду все горелки и снова читаю.
Помню такую любопытную ситуацию, достойную кинематографа. Сижу я как-то, читаю учебник матанализа Фихтенгольца (отличный, кстати, учебник) и вдруг замечаю, что с балкона на меня кто-то смотрит. Девушка моих лет, в малярской робе, с брызгами побелки на лице, все как полагается. К сожалению, не красавица. Стоит она на балконе, ест батон, запивает молоком и смотрит на меня. Я смутился, но сделал вид, что не замечаю ее, и продолжил читать. Так она простояла полчаса, до конца обеда, потом исчезла. Назавтра пришла снова, с табуреткой, села и съела свой батон, практически не сводя с меня глаз. Это продолжалось целую неделю, пока я не переехал на другой объект. Мы с ней не перекинулись даже парой слов, я не знаю, как ее звали, ни-че-го. Я смотрю на себя ее глазами в этой ситуации и вижу какого-то идеального героя, принца, спустившегося с небес, с которым нереально даже заговорить. В окружении весьма грубых строителей, не выбирающих слов в разговоре, юная девушка, насмотревшаяся фильмов о красивой любви, видит какого-то пришельца – чистого, юного, неразвращенного еврейского мальчика, читающего загадочную умную книгу с непонятным названием. Идеальная любовь на расстоянии! Может быть, все было и не так, и думала она совсем другое, но мне, человеку романтичному, хотелось бы, чтобы все было именно так. Никогда больше я не ощущал себя недостижимым идеалом. Интересно, помнит ли она об этом.
Хотя дома были почти пустые, но все-таки общаться со строителями приходилось. Большую часть времени от стройки со мной работал Керим Цуцаев, осетин, лет на 10 старше меня. Красавцем он не был, скорее наоборот: длинный нос, конопатое лицо, маленькие глаза, но считался он главным дон-жуаном стройки. Ни одной особи женского пола он не пропускал, не перекинувшись хотя бы парой слов. И женщины относились к нему с симпатией. Вот с ним-то я и проводил большую часть времени. Он рассказывал что-то о себе, о своей жизни, но большей частью о женщинах. Я слушал его, открыв рот. Правда, надо отдать ему должное, он не касался самых животрепещущих моментов общения с женщинами, он рассказывал о знакомствах, о «развитии» отношений, о том, как расставались. Для меня, не имеющего ни малейшего опыта взаимоотношений с женским полом, это было школой жизни. Керим не ставил цели развратить меня, он, наоборот, даже защищал мою не окрепшую еще психику от слишком сильных впечатлений. Он даже в разговоре со мной почти не матерился. Правда, когда мы, проходя по дому, случайно сталкивались с бригадой девушек-штукатурш, он распушал хвост и уже не следил за тем, какие слова использует. А им, как ни странно, это нравилось, наверное, потому, что за фривольными разговорами женщины чувствовали его искренний сексуальный интерес к ним, и им это было приятно. Керим показывал на меня и говорил им: «Видали, какой у меня сокол? Смотрите, не развратите его». Они смеялись, а я стоял, молчал и краснел.
Однажды Керим сказал, что у него всего 7 классов образования и что он мечтает поступить в строительный техникум на заочный, но знаний не хватает. Я искренне предложил ему позаниматься с ним математикой, тем более что времени у нас было предостаточно. Он с восторгом согласился, и мы приступили к занятиям. Я начал с формул сокращенного умножения, т.е. (a+b)2 и т.д. Но выяснилось, что все не так просто, как кажется. Ему никак не удавалось даже понять, что кроется за словами «квадрат суммы» или «разность кубов» и чем это отличается от «суммы квадратов» и «куба разности». Это кажется нереальным, но мы так и не продвинулись от этого момента. Он был совершенно не приспособлен к работе головой. После двух или трех занятий он понял, что все это для него просто каторга, и отказался от своей мечты.
Какое-то время я работал с Толей Булыгиным, мужиком лет сорока, женатым и имеющим уже вполне взрослых дочерей. Похоже, что он очень беспокоился за их судьбу, так как много внимания в наших разговорах уделял вопросам смысла жизни, человеческой морали, методов воспитания. Я запомнил такой потрясающий момент. Шли мы с ним по мосткам, которые на стройке кладутся, чтобы не ходить по грязи. Навстречу шла группа девчонок-малярш. И вот одна из них, по принятой на стройке традиции, крикнула ему с матерком: «Эй, дядя …! Какого … ты не посторонился, не пройти тут ни…». И тут Толя без нотаций, без замечаний, без упреков и без размышлений дал ей такую увесистую пощечину, что она соскочила с мостков в грязь. Она завыла, заорала, а он тихо сказал: «Не надо быть такой грубой» и пошел дальше.
Вот из такой жизни я ушел на дневной.
4. От приема до диплома
Мои 85 рублей зарплаты закончились. Да и 19 рублей за папу мне перестали платить после 18 лет. Как же жить? Частично помогала стипендия: обычная 35 р., повышенная 43,75. Приходилось думать о подработке. Все институтские годы мы с друзьями по школе подрабатывали разгрузкой вагонов на рыбном холодильнике №1, в порту. У нас была своя «студенческая» бригада. Когда на холодильник приходили вагоны с рыбой, а это было далеко не каждый день (и даже не каждую неделю), нам звонили и приглашали прийти поработать. Днем мы были заняты учебой, так что речь почти всегда шла о ночной работе. На вагоне обычно работали шестеро, с вагона каждый получал по 5 р. Мы соглашались, только если было минимум два вагона. Приезжали на базу и ждали, пока вагон поставят под разгрузку. Потом разгружали, это занимало пару часов, и шли ждать следующего вагона. Все паузы заполнялись игрой в преферанс, которым мы все тогда увлекались. Так что это была не просто работа, это был клуб по интересам. У них были и свои грузчики, так что нас вызывали только тогда, когда те не справлялись. Не всегда мы работали своей бригадой, иногда приходилось работать и с местными грузчиками. Тогда звонили нам и говорили, сколько человек нужно в помощь, иногда требовались два или три человека. Рыба была расфасована в ящики, картонные коробки или простые мешки. Каждый весил 30-40 кг, вагон – 30 тонн, всего примерно тысяча пробегов, на каждого грузчика по 160, так что работа была нелегкая, мужская, но делали мы это в охотку. Мой личный рекорд заработка за один визит – 30 р (!), т.е. 6 вагонов. Я тогда провел на холодильнике целые сутки, устал смертельно. Это было только один раз, так что мой подвиг вошел в легенды. Обычный заработок составлял 10 рэ за ночь.
Был еще один канал пополнения семейного кошелька. На протяжении двух лет мы сдавали «угол» сыну друзей нашего соседа по лестничной площадке Григория Ильича Мостовского. Мальчика звали Мартин. Его семья жила в каком-то еврейском городке в Закарпатье. Ему было 18 лет. Днем он учился в каком-то строительном ПТУ, вечером гулял где-то с друзьями, а точнее с подругами, или сидел у Мостовских, а ночью спал на диване в моей комнате. Мартин был красив и предприимчив, особенно по женской части. Друзьями мы не стали, но общались. Мне запомнился наш разговор о девушках, а эта тема меня в то время сильно интересовала. Мартин рассказал, как после танцев, провожая очередную девушку, с которой только что познакомился, он говорил ей: «Я тебя люблю!» Я никак не мог понять, как можно так легко относиться к этому слову. А Мартин, смеясь, говорил: «Ну и зря! Они от этого балдеют!» И, надо сказать, что он часто добивался желаемого. Я, хоть и был на два года старше, слушал его, как школьник учителя. Но его метод признаваться в любви в первый же вечер я на вооружение так и не взял.