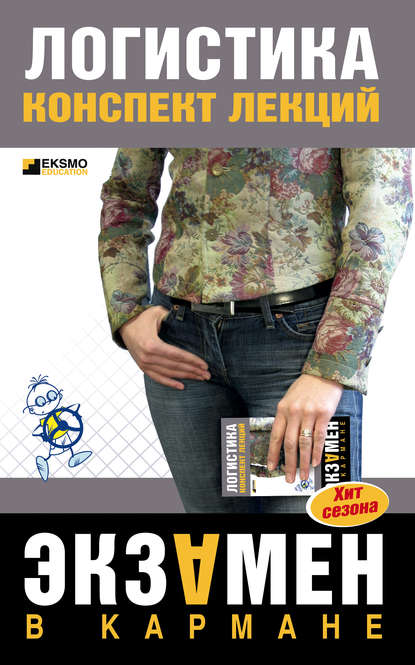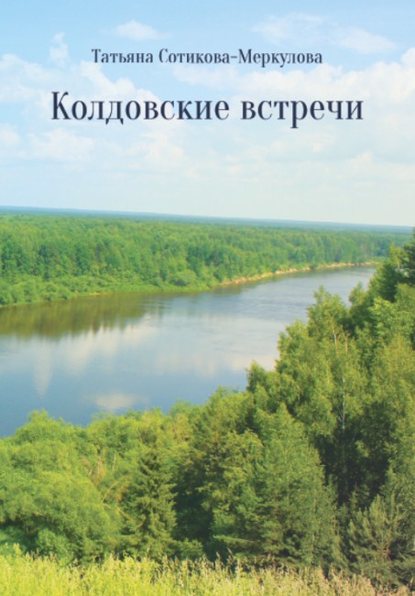Дело о страшной банде

Конец семидесятых. Верхотуринск-4, закрытый промышленный город на Урале, застывший в серой дымке заводских труб и тотального дефицита, содрогается от серии неслыханных по дерзости преступлений. Невидимая банда, прозванная в народе «страшной», действует с хирургической точностью и звериной жестокостью, оставляя за собой трупы и загадочные знаки. Кажется, у них есть глаза и уши повсюду, даже в стенах милицейских управлений. Расследование поручают следователю прокуратуры Андрею Селиванову — человеку, который видел слишком много, чтобы верить в справедливость, но еще не разучился за нее бороться. В напарники ему дают юного идеалиста, лейтенанта Кравцова. Вместе им предстоит погрузиться в изнанку советской жизни, где за фасадом партийных лозунгов скрывается паутина из старых обид, предательства и власти. Но чем ближе Селиванов подбирается к разгадке, тем яснее понимает: главный враг — не тот, кто грабит инкассаторов, а тот, кто сидит в высоком кабинете и требует поскорее найти виновных...