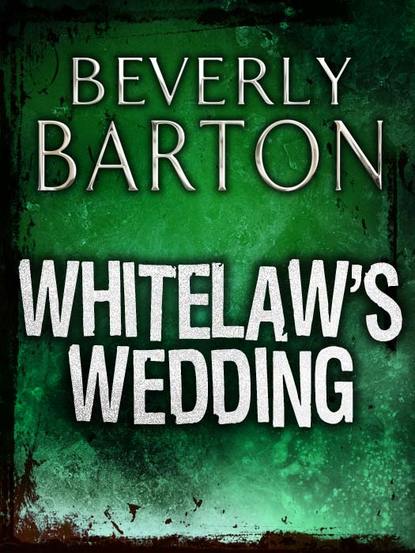Три последние ноты

- -
- 100%
- +

Реквием для скрипача
Декабрь вцепился в горло Петербурга костлявыми пальцами, и город хрипел, выдыхая в свинцовое небо клубы серого пара из тысяч печных труб, из ноздрей измученных лошадей, из ртов закутанных по самые глаза прохожих. Извозчичий промерзший экипаж, скрипя полозьями по серому, утоптанному снегу, нес Порфирия Волкова по Невскому проспекту. Каждая витрина, подсвеченная газовыми рожками, была похожа на театральную сцену, где застыли манекены в модных нарядах – безмолвные актеры в пьесе о благополучии и достатке. Волков смотрел на это ледяное великолепие и чувствовал, как внутри поднимается привычная, глухая тоска, похожая на неотвязный низкий гул виолончели в пустом зале.
Ему не хотелось ехать. Ему хотелось сейчас сидеть в трактире «Палкин», в дальнем углу, где потемневший от табачного дыма потолок давит на плечи, и медленно, методично глушить водкой фантомную боль в левой руке. Тупую, ноющую боль, которая всегда возвращалась в такие вечера, когда мороз становился особенно злым, а одиночество – особенно густым. Но городовой, запыхавшийся, с красным от холода лицом, был настойчив. Убийство. Не простое – на Невском. Жертва – Лев Зобель. Перл Императорского оркестра. Сама его фамилия звучала как дорогой мех – мягко, весомо, недоступно.
Экипаж остановился у массивного доходного дома с атлантами, державшими на каменных плечах балкон и тяжесть всего петербургского неба. У парадного входа уже суетились нижние чины, их шинели казались почти черными на фоне белого снега. Швейцар, похожий на нахохлившегося филина, испуганно кланялся каждому входящему. Волков вышел из экипажа, глубже запахнул воротник пальто и кивнул знакомому околоточному.
– Что там, Семён? – спросил он, не сбавляя шага.
– Безобразие, Порфирий Иванович, – выдохнул тот, семеня рядом. – Сущий вертеп. Все вверх дном. Господин Зобель… того. Лежат-с. Похоже, грабители. Ценностей, видать, искали.
Волков промолчал. Грабители на Невском, в квартире первой скрипки Императора. Слишком просто. Слишком громко. В таких делах простая мелодия ограбления почти всегда оказывалась лишь увертюрой к куда более сложной и мрачной опере.
Квартира Зобеля находилась на третьем этаже. Воздух на лестничной клетке был сперт и неподвижен, пахло дорогими духами, воском для полов и еще чем-то тонким, едва уловимым, металлическим и сладковатым. У распахнутых дверей его уже ждал помощник, Аркадий Смирнов. Молодой, румяный, с аккуратно подстриженными усиками, он был воплощением нового века сыска – верил в факты, цифры и зарождающуюся дактилоскопию. На интуицию своего начальника он посматривал с вежливым недоверием, как на пережиток прошлого.
– Порфирий Иванович, – начал он официальным тоном, едва Волков переступил порог. – Потерпевший – Зобель Лев Борисович, сорока семи лет. Обнаружен горничной около часа назад. Причина смерти пока не установлена, но имеются множественные ушибы и, вероятно, асфиксия. В гостиной следы борьбы.
Волков кивнул, снимая перчатки. Он окинул взглядом прихожую – брошенная на пол соболья шуба, серебряная трость с набалдашником из слоновой кости, цилиндр, закатившийся в угол. Все говорило о поспешном, внезапном нападении. Он прошел в гостиную.
Здесь царил хаос. Не тот хаос нищеты и отчаяния, к которому он привык в ночлежках на Сенной, а хаос поруганной роскоши, что было куда страшнее. Перевернутый стол из карельской березы, осколки китайской вазы, похожие на голубые льдинки на темном персидском ковре. Сорванные со стен картины в тяжелых золоченых рамах. Выдвинутые ящики бюро, из которых белым водопадом вывалились бумаги и письма. Казалось, по комнате пронесся небольшой ураган, движимый яростью и жадностью.
Сам Зобель лежал возле массивного рояля «Бехштейн». Он был одет в домашний бархатный халат, распахнутый на груди. Его лицо, еще недавно выражавшее, должно быть, самодовольство и артистическое высокомерие, теперь было искажено гримасой ужаса и удивления. Глаза, широко открытые, смотрели в лепнину потолка, словно пытаясь прочесть там партитуру собственной внезапной смерти.
Волков медленно обошел тело. Он не спешил, давая картине преступления самой зазвучать в его голове. Он слушал тишину этой комнаты, тишину, пришедшую на смену крикам, грохоту и последнему, предсмертному хрипу. Тишина эта была неестественной, давящей.
– Что взяли? – спросил он, не оборачиваясь к Смирнову.
– Трудно сказать наверняка, Порфирий Иванович. Горничная в истерике, но, по первым прикидкам, пропали часы-брегет, золотой портсигар и бумажник. В бюро, видите, искали деньги или ценные бумаги. Классическая работа домушников, которых спугнули. Возможно, он их застал врасплох.
«Возможно», – подумал Волков. Но что-то в этой классической аранжировке звучало фальшиво. Слишком много ярости для простого грабежа. Мебель не просто перевернули – ее сломали. Фарфор разбили не случайно – его растоптали. Это была не жадность. Это была ненависть. Концерт ненависти для одного зрителя.
Его взгляд скользил по комнате, цепляясь за детали. За изящные, холеные руки Зобеля, пальцы скрипача, созданные для волшебства, а теперь безжизненно раскинутые на ковре. За ноты, рассыпанные по полу веером из вспоротого портфеля. Бах, Моцарт, Брамс… великие гении прошлого, ставшие невольными свидетелями уродливой современной драмы. И тут его взгляд замер.
Среди всего этого разгрома, в самом центре комнаты, стоял пюпитр из красного дерева. Он был единственным предметом, которого не коснулся хаос. Он стоял прямо и гордо, как дирижер посреди обезумевшего оркестра. А на нем, аккуратно расправленный, лежал один-единственный нотный лист.
Волков почувствовал, как по спине пробежал холодок, не имеющий ничего общего с декабрьским морозом. Он медленно подошел ближе. Смирнов, заметив его движение, тоже шагнул к пюпитру.
– Что это, Порфирий Иванович? Какая-то записка?
Волков не ответил. Он смотрел на лист. Бумага была старая, желтоватая, с неровными краями, словно вырванная из древней книги. Но то, что было на ней начертано, не имело отношения к древности. Пять линеек нотного стана были проведены твердой, уверенной рукой. И на них – всего три такта. Три коротких музыкальных фразы.
Ноты были выведены густым, темно-красным цветом, который уже начал сворачиваться и темнеть по краям. Чернила легли неровно, где-то впитавшись в бумагу глубже, где-то застыв на поверхности глянцевой каплей. Волков видел кровь сотни раз. Он знал ее запах, ее текстуру, ее цвет на разных поверхностях. И это была кровь.
В левой руке, в изувеченных сухожилиях, вспыхнула острая, колющая боль. Он непроизвольно сжал пальцы в кулак.
– Смирнов, позовите доктора, – тихо сказал он. – Пусть возьмет образец этих… чернил. И сравнит с кровью покойного.
Смирнов, всегда такой уверенный, смотрел на нотный лист с нескрываемым отвращением.
– Господи… Кто же на такое способен? Писать кровью… Это же…
– Это послание, Аркадий, – перебил его Волков. Его голос стал глухим. – Это не записка. Это партитура. Автор сего произведения хотел, чтобы его услышали. Точнее, прочли.
Он наклонился ближе, вглядываясь в ноты. Его мозг, против воли, начал работать в забытом режиме. Он не просто видел знаки – он слышал их. Три коротких, отрывистых мотива. В них не было гармонии. Это был диссонанс. Резкий, тревожный, незаконченный. Музыкальный обрубок. Последние конвульсии мелодии перед тем, как она оборвется навсегда.
Кто мог это сделать? Музыкант? Безусловно. Так точно и каллиграфически вывести нотные знаки, особенно таким… материалом, мог только человек, для которого это было так же естественно, как для других – писать буквы. Но что это за мелодия? Отрывок из известного произведения? Или что-то свое, сочиненное специально для этого случая? Реквием для скрипача, написанный им же самим, но чужой рукой.
Волков отошел от пюпитра и снова оглядел комнату. Теперь она выглядела иначе. Это был не просто результат борьбы. Это была инсценировка. Жестокая, уродливая, но тщательно продуманная. Хаос был лишь декорацией, призванной скрыть главный элемент – этот жуткий нотный лист. Убийца не просто пришел убить и ограбить. Он пришел дирижировать. И смерть Зобеля была лишь первым тактом в его симфонии.
– Порфирий Иванович, – Смирнов подошел снова, уже оправившись от первого шока. – Я опросил швейцара и прислугу с нижних этажей. Никто ничего подозрительного не видел и не слышал. Ни криков, ни шума борьбы. Словно все произошло в полной тишине.
– В полной тишине не бывает, Аркадий, – возразил Волков, потирая виски. – Бывает тишина, которую никто не хочет слышать. Соседи в таких домах приучены не замечать диссонансов в жизни друг друга. Проверьте всех, с кем Зобель общался в последние дни. Всех до единого. Музыканты, критики, дамы сердца… особенно дамы сердца. Ищите обиды, ссоры, зависть. Ищите того, кто ненавидел не столько самого Зобеля, сколько его музыку. Его успех.
– Вы думаете, это кто-то из своих? Из театрального мира?
– В мире, где талант – это валюта, зависть – самый распространенный яд, – Волков подошел к роялю и коснулся кончиками пальцев его лакированной крышки. Холодная, гладкая поверхность. Он представил, как руки Зобеля порхали над клавишами. А потом… потом пришли другие руки. Руки, которые не создавали музыку, а обрывали ее.
Он поднял крышку. Клавиши из слоновой кости блеснули в свете газовой лампы. Он занес правую руку, но в последний момент отдернул ее. Нет. Он не будет играть. Никогда больше. Эта часть его жизни была похоронена под пеплом и обломками сгоревшего дома много лет назад. Но иногда, как сейчас, мертвецы начинали шевелиться в своих могилах.
Он вышел на балкон, чтобы глотнуть морозного воздуха. Внизу, на проспекте, продолжалась своя жизнь. Проезжали кареты, смеялись под руку гуляющие пары. Никто из них не знал, что здесь, над их головами, музыка только что умерла страшной смертью. Петербург, как огромный, равнодушный зритель, смотрел на эту трагедию и не аплодировал. Он просто ждал следующего акта.
И Волков знал, что он будет. Тот, кто написал эти три ноты, не остановится. Это было лишь вступление. И теперь ему, Порфирию Волкову, следователю, чья душа была искалечена музыкой, предстояло расшифровать эту кровавую партитуру и найти ее безумного композитора, пока тот не дописал свое произведение до финала. Он вытащил из кармана фляжку, отвинтил крышку и сделал большой глоток. Коньяк обжег горло, но не принес тепла. Внутри все уже заледенело. Он смотрел на город, и ему казалось, что вой ветра в проводах складывается в ту самую тревожную, незавершенную мелодию с пожелтевшего листа. Мелодию из трех последних нот.
Диссонанс в оркестровой яме
Утро сочилось сквозь неплотно прикрытые шторы серым, разбавленным светом, похожим на остывший чай. Волков сидел на краю своей неубранной постели, и каждая частица его существа протестовала против наступающего дня. Голова гудела низким, басовым аккордом после выпитого ночью коньяка. Во рту стоял привкус меди и вчерашнего табака. Но хуже всего было не это. Хуже всего были три ноты. Они всю ночь преследовали его в коротком, тревожном сне, вплетались в обрывки кошмаров о пожаре, звучали в унисон с воем ветра за окном. Короткие, ядовитые, как укус змеи. Они были ключом, но дверь, которую они отпирали, вела в такой мрак, куда его искалеченная душа возвращаться не хотела.
Он заставил себя встать. Умылся ледяной водой из медного таза, фыркая и отдуваясь. Отражение в мутном зеркале ему не понравилось. Человек с ввалившимися глазами и сединой, похожей на иней у висков, смотрел на него с молчаливым укором. «Музыкант, – подумал Волков с привычной долей самобичевания, – ты променял „Бехштейн“ на протоколы допросов, а сонаты – на предсмертные хрипы». Он с силой растер лицо жестким полотенцем, словно пытаясь стереть с него и отражение, и мысли.
К десяти часам он, уже одетый в свой строгий, чуть помятый сюртук, вместе со Смирновым подъехал к Мариинскому театру. Днем, без сияния газовых фонарей и шелеста вечерних платьев, здание казалось другим. Не храмом искусства, а огромным каменным мавзолеем, где под позолотой и бархатом покоились мумии страстей, интриг и несбывшихся надежд. Воздух был пропитан запахами пыли, старого дерева и чего-то неуловимо сладкого, похожего на запах увядающих цветов в гримерной стареющей примадонны. Тишина давила на уши. Каждый их шаг по гулким коридорам отдавался многократным эхом, будто за ними следовала процессия призраков.
Их провели в кабинет главного дирижера, Валентина Платоновича Орлова. Кабинет был под стать своему хозяину: огромный, заставленный шкафами с партитурами, стены увешаны портретами композиторов, которые смотрели на входящих с олимпийским спокойствием гениев. Сам Орлов сидел за столом из черного дуба, массивным, как алтарь. Седовласый, с идеально прямой спиной и лицом римского патриция, он был не просто человеком – он был институтом. Живым памятником самому себе.
– Господа, – произнес он, поднимаясь им навстречу. Голос его, привыкший повелевать сотней музыкантов, был глубоким и бархатным, но сейчас в нем слышались тщательно задрапированные стальные нотки. – Какая трагедия. Какая невосполнимая потеря для русского искусства. Лев Борисович был… он был нервом нашего оркестра. Струной, натянутой до предела гениальности.
Он говорил красиво, выстраивая фразы, как музыкальные пассажи. Волков молча слушал эту увертюру к лжи. Он видел, как под маской скорби в глазах маэстро прячется холодный, цепкий страх. Орлов скорбел не о Зобеле. Он скорбел о нарушенном порядке вещей, о вторжении грубой, уродливой реальности в его идеально выстроенный мир гармонии.
– Валентин Платонович, – начал Волков тихо, почти безразлично, давая понять, что на него не действуют театральные эффекты. – Нам нужно понять, кто мог желать смерти господина Зобеля. У него были враги?
Орлов картинно вздохнул, опустившись в кресло.
– Враги? Помилуйте, следователь. У гениев не бывает врагов. Бывают лишь завистники. Лев был человеком страстным, увлекающимся. Он жил на высоких нотах, если позволите такое сравнение. Мог быть резок в суждениях, нетерпим к бездарности. Конечно, это не всем нравилось. Посредственность всегда обижается на талант.
– То есть, конфликтовал с коллегами? – уточнил Смирнов, уже раскрывая свой блокнот. Его аккуратный почерк казался неуместным в этом царстве витиеватых нотных знаков.
– Конфликтовал? – Орлов презрительно изогнул тонкую губу. – Это слишком низкое слово. Творческие споры, не более. Диспуты о трактовке того или иного произведения. Вы не поймете, господа. Это алхимия. Здесь нет места мелочным обидам, которые понятны вам, чиновникам сыскной полиции.
Волков почувствовал, как внутри закипает глухое раздражение. Этот человек говорил с ними так, будто они были глухими на репетиции симфонии. Он решил сменить тональность.
– Мы обнаружили на месте преступления нечто странное, – произнес он, внимательно глядя в глаза дирижеру. – Ноты. Три такта, написанные кровью. Вам что-нибудь говорит эта мелодия?
Он достал из папки сделанную Смирновым точную зарисовку нотного листа и положил ее на стол. Орлов на мгновение замер. Его пальцы, лежавшие на подлокотнике, чуть дрогнули. Он надел пенсне с золотой оправой и склонился над листом. Волков заметил, как по его холеному лицу пробежала тень. Это была не просто тень – это было эхо чего-то давно забытого, но не ушедшего.
– Дичь какая-то, – проговорил он наконец, но уверенность в его голосе дала трещину. – Какой-то диссонирующий, уродливый набор звуков. Бессмыслица. Работа сумасшедшего.
– Сумасшедшего, который, тем не менее, прекрасно знает нотную грамоту, – заметил Волков. – Это не похоже ни на один известный вам мотив? Возможно, из какой-то редкой оперы? Или, может быть, это чье-то ученическое упражнение из прошлого?
Вопрос был брошен как камень в тихий омут. Волков видел, как по воде пошли круги. Орлов отвел взгляд.
– Следователь, за сорок лет моей карьеры я прослушал тысячи мелодий. Тысячи! От гениальных до чудовищных. Я не могу помнить каждый музыкальный бред, который мне доводилось слышать. Это послание безумца, и не стоит искать в нем логику там, где ее нет. Ищите лучше тех, кому Зобель задолжал в картах. Я слышал, у него были… слабости.
Он переводил стрелки. Дешевый, предсказуемый маневр. Волков понял, что от дирижера он больше ничего не добьется. По крайней мере, сейчас. Маэстро слишком хорошо владел собой, чтобы выдать свой страх. Но он его чувствовал. Страх был той самой фальшивой нотой, которая разрушала всю его величественную партию.
Они покинули кабинет и спустились вниз, в самое сердце театра – в оркестровую яму. Репетиция была отменена по случаю траура, но многие музыканты были на месте. Они не расходились, сбившись в небольшие группы, словно стая испуганных птиц, у которой утащили вожака. Когда Волков и Смирнов вошли, разговоры мгновенно стихли. Десятки глаз устремились на них. В этих взглядах читалась смесь страха, любопытства и затаенного недоброжелательства. Они были чужими в этом замкнутом мире, где смычки и мундштуки значили больше, чем полицейские жетоны.
Атмосфера здесь была густой, почти осязаемой. Пахло канифолью, лаком старых инструментов, сукном и человеческим потом. Волков вдохнул этот воздух, и фантомная боль в левой руке отозвалась тупым уколом. Этот мир был его раем и его адом. Он знал его изнутри. Он знал, что за внешней гармонией оркестра всегда скрывается контрапункт из зависти, мелких интриг и борьбы за лучшее место, за сольную партию, за благосклонный кивок дирижера.
– Мы хотели бы задать несколько вопросов, господа, – начал Смирнов своим ровным служебным тоном.
От группы валторнистов отделился грузный мужчина с багровым лицом и злыми, близко посаженными глазами.
– А что тут спрашивать? – пробасил он. – Леву всякий мог прирезать. Язык у него был острее, чем смычок у скрипки. Вчера одному молодому флейтисту сказал, что его трели звучат, как предсмертный хрип мыши в мышеловке. Парень чуть не заплакал.
– И кто этот флейтист? – быстро спросил Смирнов, доставая блокнот.
– Да Иннокентий Вяземский, кто ж еще, – хмыкнул валторнист. – Вечно ноет. Но он и курицу не обидит. Ищите, кому Лева дорогу перешел по-крупному. Он ведь не только первую скрипку играл. Он еще в консерватории на приемных экзаменах сидел. Сколько он судеб-то поломал, одному богу известно. Скажет какому-нибудь самородку из провинции, что у того слуха нет, – и все, конец карьере. А сам-то…
Он не договорил, но во взглядах окружающих Волков прочел молчаливое согласие. Это была первая интересная нить. Зобель был не просто музыкантом. Он был привратником. Тем, кто решал, кому войти в этот храм, а кому остаться за его стенами.
Они подошли к группе скрипачей, которые стояли особняком, скорбно поджав губы. Их скорбь, впрочем, казалась Волкову такой же напускной, как позолота на арфе в углу.
– Он был лучшим из нас, – проговорил худой, нервный скрипач, второй номер после Зобеля. Теперь, очевидно, он метил на место первого. – Его техника… божественна. Никто не мог так исполнять Паганини.
– А вне сцены? Каким он был человеком? – спросил Волков.
Скрипач замялся, его пальцы забегали по грифу воображаемой скрипки.
– Он был… требовательным. К себе и к другим. Он не прощал фальши. Ни в музыке, ни в жизни.
– А вы всегда играли чисто? – тихо спросил Волков.
Взгляд скрипача метнулся в сторону, как испуганный зверек.
– Я… мы все стараемся.
Волков видел, как в его глазах блеснула и тут же погасла искорка ненависти. Этот человек годами сидел в тени Зобеля, годами ждал своего часа. И вот час настал. Его скорбь была лишь данью приличиям. На самом деле он торжествовал.
Они опросили еще с десяток человек. Картина вырисовывалась удручающая. Никто не любил Зобеля. Его уважали как виртуоза, боялись как человека с влиянием и презирали за высокомерие. Каждый играл свою партию в этой общей кантате страха и лицемерия. Одни намекали на его связи с некой балериной, у которой был ревнивый покровитель. Другие шепотом говорили о крупных карточных долгах. Третьи вспоминали давние ссоры из-за распределения сольных партий. Версий было много, как инструментов в оркестре, и все они звучали разноголосо, создавая cacophony, из которой невозможно было выделить основную тему.
Смирнов аккуратно записывал имена, даты, суммы. Он искал факты, за которые можно уцепиться. Волков же слушал не то, что говорили, а то, о чем молчали. Он чувствовал подспудное, застарелое напряжение, которое витало в этом замкнутом пространстве. Убийство Зобеля не сплотило их. Наоборот, оно вскрыло старые гнойники, заставило каждого с подозрением смотреть на соседа. Это было не горе. Это был кризис, который обнажил уродливую изнанку их блестящего мира.
Они уже собирались уходить, когда Волков заметил в дальнем углу человека, который не принимал участия в общих разговорах. Это был флейтист, Иннокентий Вяземский. Тот самый, которого, по словам валторниста, Зобель сравнил с мышью. Он сидел на стуле, разбирая свою флейту, и его тонкие, бледные пальцы слегка подрагивали.
Волков подошел к нему. Вяземский вздрогнул и поднял на него испуганные, водянистые глаза.
– Господин Вяземский? Следователь Волков. Говорят, у вас вчера был неприятный разговор с покойным.
Флейтист побледнел еще сильнее.
– Пустяки… Рабочий момент… Лев Борисович всегда был строг. Он хотел, чтобы мы достигали совершенства…
– И вы достигли? – мягко надавил Волков.
В глазах Вяземского блеснули слезы обиды.
– Он… он не имел права так говорить. Я служу в этом театре пятнадцать лет. Я…
Он замолчал, закусив губу. Его взгляд был полон такой затаенной, бессильной злобы, что Волкову стало не по себе. Это была злоба маленького человека, которого унижали годами, и который копил эту обиду, как яд, капля за каплей.
– Где вы были вчера вечером, господин Вяземский? – спросил Смирнов, подходя сзади.
– Дома! – почти выкрикнул флейтист. – Я был дома, с женой! Весь вечер! Я пил чай и читал газету!
Его реакция была слишком бурной, слишком отчаянной. Он защищался, хотя на него еще не нападали.
Волков кивнул и отошел, оставив Смирнова проверять его алиби. Он уже знал, что Вяземский, скорее всего, говорит правду. Такой человек, как он, мог мечтать об убийстве, мог проигрывать его в своем воображении тысячу раз, но никогда бы не решился на него в реальности. Его удел – шипеть за спиной и писать анонимные пасквили. Но его страх и его ненависть были частью общей партитуры этого места. Они были важны.
Когда они вышли из театра на морозный воздух площади, Волков почувствовал огромное облегчение, будто вынырнул из душной, затхлой воды. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая крыши и купола в холодные, розовые тона.
– Ну что скажете, Порфирий Иванович? – спросил Смирнов, выдыхая облачко пара. – По-моему, круг подозреваемых ясен. Либо картежный долг, либо ревнивый вельможа, либо вот этот скрипач, второй номер. У него мотив самый очевидный – карьера. Вяземский – слизняк, не стоит на него время тратить.
Волков не ответил. Он смотрел на театр. Сейчас, в лучах заката, он снова казался прекрасным и величественным. Но Волков видел его насквозь. Он видел пыльные кулисы, слышал ядовитый шепот в гримерках, чувствовал липкий страх, затаившийся в оркестровой яме.
– Ты ищешь простую мелодию, Аркадий, – проговорил он наконец. – А здесь звучит фуга. Сложное полифоническое произведение, где несколько тем развиваются одновременно, переплетаясь и споря друг с другом. Карты, женщины, карьера – это все отдельные голоса. Но они лишь заглушают главную тему. Ту, что прозвучала много лет назад.
– Какую тему? – не понял Смирнов.
– Тему унижения, – Волков засунул озябшие руки в карманы пальто. – Кто-то когда-то здесь, в этих стенах, был растоптан. Его музыку назвали шумом, его талант – бездарностью. И он вернулся. Вернулся не мстить кому-то одному. Он пришел судить их всех. Орлов боится не за свою жизнь. Он боится своего прошлого. И пока мы не узнаем, что именно произошло в этом театре много лет назад, мы будем слушать лишь отдельные, фальшивые ноты, не понимая всей симфонии.
Он повернулся и пошел прочь, не дожидаясь помощника. Он не знал еще имени композитора этой жуткой музыки, но он начал различать его почерк. Это был почерк человека, для которого месть стала единственным смыслом существования. Искусством, ради которого он был готов превратить храм музыки в скотобойню. И Волков чувствовал, что первый акт этой кровавой оперы еще не закончен. За ним обязательно последует второй.
Крещендо ужаса
Газеты врали с упоением. Они захлебывались эпитетами, смакуя каждую деталь, как уличные мальчишки – украденный леденец. «Тайна бархатных кулис!», «Кровавый дебют на Невском!», «Демон-душегуб в Императорском театре!». Город, вечно жадный до чужих трагедий, с утра зачитывался подробностями убийства Льва Зобеля, и шепот, родившийся в промозглых переулках и натопленных гостиных, превращался в гул. Порфирий Волков сидел в своем кабинете на Гороховой и слушал этот гул сквозь дребезжание оконного стекла. Ему казалось, что он слышит, как страх, подобно тончайшей ледяной пленке, расползается по замерзшим каналам, сковывая волю и отравляя мысли.