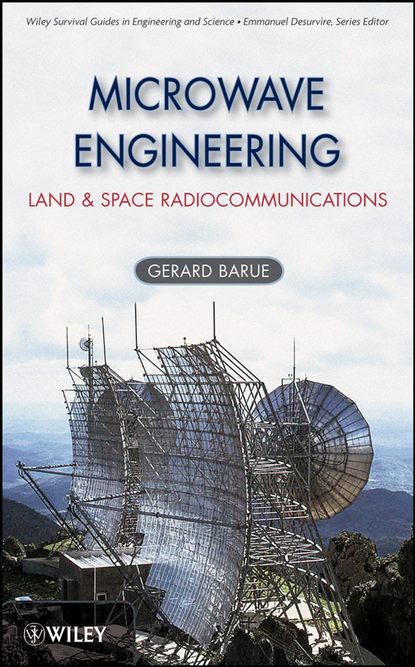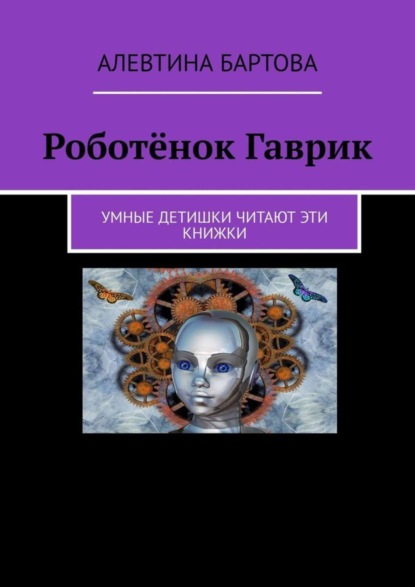Три последние ноты

- -
- 100%
- +
В его кабинете пахло остывшим цикорием и казенной безнадежностью. На столе громоздились папки с делами – банальными, уродливыми историями о бытовой злобе и мелкой жадности. На их фоне дело Зобеля выглядело как экзотический, ядовитый цветок, выросший на навозной куче. Вчерашняя зарисовка трех кровавых нот лежала перед ним. Он смотрел на нее, и в голове снова и снова проигрывался этот колючий, неправильный мотив. Это было не просто убийство. Это было заявление. Манифест, написанный на языке, который понимали немногие, но ужас которого чувствовали все.
Дверь скрипнула, и вошел Смирнов. Его лицо было свежим, выбритым до синевы, и от него веяло уверенностью человека, идущего по прямому и понятному пути. В руках он держал аккуратную папку.
– Доброго утра, Порфирий Иванович. Есть подвижки по делу Зобеля. Моя версия о долгах находит подтверждение.
Волков поднял на него усталые глаза, не сказав ни слова. Он дал помощнику возможность выложить свои карты.
– Я провел ночь в архивах Охранного отделения и опросил кое-кого из завсегдатаев игорных клубов, – с энтузиазмом доложил Смирнов. – Покойный был страстным игроком. За последние полгода проиграл колоссальную сумму. Более десяти тысяч рублей. Его главный кредитор – некий купец второй гильдии Хвостов, человек с репутацией весьма сомнительной. Он не раз угрожал Зобелю. Накануне убийства у них была крупная ссора в ресторане «Доминик». Свидетели есть.
– И Хвостов, конечно же, обладает познаниями в теории музыки, чтобы сочинить и каллиграфически вывести кровью послание на нотном стане? – тихо спросил Волков.
Смирнов на мгновение смутился.
– Ну… возможно, это отвлекающий маневр. Ширма. Умный ход, чтобы пустить нас по ложному следу. Направить расследование в сторону театральных интриг, пока настоящая причина – банальные деньги.
– Деньги никогда не бывают банальными, Аркадий. Но они редко бывают столь артистичными. Этот Хвостов… что он за человек?
– Грубый, необразованный, но с мертвой хваткой, – Смирнов сверился со своими записями. – Выходец из мещан. Грамоте едва обучен.
Волков устало потер переносицу.
– Вот видишь. Убийца не просто оставил записку. Он создал образ. Он поставил на сцену пюпитр. Он использовал старую бумагу. Он вывел ноты с точностью гравера. Каждая деталь кричит о том, что для него форма так же важна, как и содержание. Ваш Хвостов просто ударил бы Зобеля канделябром по голове и обшарил карманы. Это другой почерк. Другая опера.
– Но мы не можем игнорировать факты! – с юношеским пылом возразил Смирнов. – Долг, ссора, мотив…
– Мы их не игнорируем. Мы кладем их в общую копилку. Но не позволяем им заглушить основную мелодию, – Волков постучал пальцем по зарисовке. – Вот она. А ваш Хвостов – это лишь шум толпы за стенами концертного зала. Работай по нему, Аркадий. Допроси. Припугни. Но не жди от этого многого. Наш композитор куда тоньше.
Не успел Смирнов возразить, как дверь кабинета распахнулась без стука, и на пороге возник запыхавшийся городовой. Его лицо было белее мела, а глаза испуганно метались по сторонам.
– Ваше благородие… Порфирий Иванович… – прохрипел он, срывая с головы обледеневшую папаху. – Еще один… Музыкант… Из Мариинского…
Волков медленно встал. Воздух в комнате вдруг стал плотным, вязким. Гул за окном, казалось, обрел фокус и ударил ему прямо в уши. Предчувствие, которое глухо тлело в нем со вчерашнего вечера, вспыхнуло ледяным огнем. Он знал. Он ждал этого.
– Кто? – его голос прозвучал глухо, как удар по треснувшему колоколу.
– Флейтист… Вяземский, Иннокентий Петрович. У себя в квартире, на Фонтанке… Жена нашла…
Квартира Вяземского была полной противоположностью роскошным апартаментам Зобеля. Небольшая, заставленная мещанской мебелью под орех, с неизбежными геранями на подоконниках и вышитыми салфетками на комоде. Здесь пахло нафталином, валерьянкой и устоявшимся, безрадостным бытом. И в этот запах, как капля яда в стакан с водой, вплетался новый, еле уловимый, тошнотворно-сладкий аромат горького миндаля.
Сам Вяземский сидел в кресле у стола. Его голова откинулась на спинку, глаза были полуприкрыты, а на губах застыло нечто похожее на удивленную, брезгливую усмешку. Он был одет в поношенный домашний халат, на ногах – стоптанные туфли. На столе перед ним стояла недопитая чашка с чаем и лежала раскрытая газета. Все выглядело так, будто человек просто присел отдохнуть после завтрака и задремал. Но восковая бледность его кожи и неестественная неподвижность позы говорили об ином.
Жена, маленькая, иссохшая женщина в темном платке, сидела на диване, раскачиваясь из стороны в сторону и бормоча что-то бессвязное. Околоточный пытался ее успокоить, но она его не слышала, погруженная в свой собственный, оглушительный мир горя.
Волков молча прошел в комнату. Он снова чувствовал себя зрителем в театре абсурда. Вчера – ярость, борьба, сломанная мебель. Сегодня – тихая, почти стыдливая смерть в мещанском интерьере. Убийца менял жанры. От героической трагедии – к бытовой драме.
– Цианистый калий, – констатировал доктор, невысокий полноватый мужчина, уже закончивший предварительный осмотр. – Классическая картина. Смерть наступает практически мгновенно. Судя по всему, яд был в чае.
Волков кивнул. Яд. Тихое, коварное оружие. Как раз для такого человека, как Вяземский – интригана, мастера ядовитого слова, сказанного шепотом за спиной. Снова эта жуткая, извращенная симметрия. Убийца не просто лишал жизни, он выносил приговор, и способ казни соответствовал преступлению, которое он сам вменял своим жертвам. Зобель, высокомерный и гордый, был сокрушен грубой силой. Вяземский, отравлявший жизнь другим своим языком, был отравлен сам.
– Где? – спросил Волков у Смирнова, который уже был здесь и руководил первыми действиями.
Смирнов молча указал в угол комнаты.
Там, возле старого, рассохшегося фисгармониума, стоял пюпитр. Простой, деревянный, не чета тому, что был у Зобеля. И на нем лежал точно такой же пожелтевший лист бумаги. С теми же тремя тактами, выведенными запекшейся кровью.
Волков подошел ближе. На этот раз он не чувствовал шока. Только холодную, тяжелую уверенность. Крещендо. Ужас нарастал, набирал силу, становился громче. Убийца не просто повторялся. Он выстраивал ритм. Удар – и следующий удар, еще сильнее прежнего.
– Прикажи взять образец, Аркадий, – сказал Волков, не отрывая взгляда от нот. – И немедленно отправь на экспертизу. Пусть сравнят с кровью Зобеля.
– Вы думаете?.. – начал Смирнов, и в его голосе впервые прозвучало не служебное рвение, а настоящий, человеческий страх.
– Я думаю, наш композитор пишет свою партитуру кровью предыдущих жертв, – закончил за него Волков. – Он собирает свой оркестр мертвецов. Каждый убитый становится чернилами для следующего смертного приговора.
Он отошел от пюпитра и заставил себя сосредоточиться на деталях. На столе, кроме чашки, стояла сахарница и вазочка с лимоном. Ничего необычного.
– Кто-то приходил сегодня утром? – спросил он у околоточного, кивнув на оцепеневшую вдову.
– Она говорит, что нет, ваше благородие. Утром никого не было. Он сам себе чай заваривал, как всегда. Она в соседней комнате белье гладила. Говорит, не слышала ничего. Только потом зашла, а он уж… вот так.
Значит, яд был подсыпан заранее. В сахар? В саму заварку? Это требовало доступа в квартиру. Убийца либо бывал здесь раньше, либо проник тайно.
– Взлома не было, – предугадал его мысли Смирнов. – Замки целы.
Волков оглядел комнату еще раз. Его взгляд зацепился за фисгармониум. Крышка была открыта. На клавишах лежал тонкий слой пыли, но в нескольких местах она была стерта, будто кто-то недавно касался их. Волков подошел и осторожно нажал одну из клавиш. Инструмент издал жалобный, дребезжащий звук, похожий на старческий вздох.
– Муж играл? – спросил он, повернувшись к вдове.
Женщина вздрогнула, ее взгляд на мгновение прояснился.
– Иннокентий? Что вы… Он к нему лет десять не подходил. Говорил, что этот инструмент для псалмов, а не для музыки. Он… его настройщик вчера приходил. Днем. Сказал, что по рекомендации от дирекции театра, плановая проверка инструментов у всех оркестрантов на дому. Иннокентий еще удивлялся, с чего бы такая щедрость.
Волков замер. Все его существо натянулось, как струна.
– Настройщик? Как его звали? Как он выглядел?
– Имя не запомнила… такой… тихий, неприметный. В очках. Говорил мало, все больше с инструментом возился. Иннокентий его еще чаем хотел напоить, а тот отказался. Сказал, что спешит. Пробыл не больше получаса.
Тихий. Неприметный. Человек-тень, который проходит сквозь стены, не оставляя следов. Который приходит под благовидным предлогом, чтобы подготовить сцену для своего следующего акта. Волков посмотрел на сахарницу на столе. Вот оно. Проще простого. Пока Вяземский следил за манипуляциями с фисгармониумом, «настройщик» мог сделать все, что угодно. Он не просто убийца. Он был превосходным психологом. Он знал, что музыкант, даже презирающий свой старый инструмент, не сможет не наблюдать, как в нем копается чужой человек.
Когда они вышли из квартиры на морозную улицу, Смирнов был бледен и молчалив. Его стройная версия о купце Хвостове и карточных долгах рассыпалась в прах. Реальность оказалась куда страшнее и безумнее.
– Он знал, что мы говорили с Вяземским вчера, – проговорил Смирнов, глядя в пустоту. – Он убил его сразу после нашего визита. Он будто смеется над нами.
– Он не смеется, – возразил Волков. – Он дирижирует. А мы пока что лишь растерянные музыканты в его оркестре, не понимающие замысла. Он ведет свою партию, а мы вынуждены ему подыгрывать.
Новость о второй смерти докатилась до Мариинского театра быстрее, чем их пролетка. Когда они вошли в здание, их встретила совершенно иная атмосфера, нежели накануне. Вчерашнее тайное злорадство и перешептывания сменились открытым, животным страхом. В гулких коридорах музыканты жались друг к другу, говорили отрывистыми, срывающимися голосами. Их лица были серыми, глаза бегали. Это был уже не страх за свою карьеру. Это был страх за свою жизнь. Невидимый убийца ходил среди них, и каждый теперь примерял на себя роль следующей жертвы.
Паника была похожа на дурно настроенный инструмент – она создавала постоянный, низкий, вибрирующий гул, от которого першило в горле.
– Это проклятие! – услышал Волков обрывок фразы.
– Он убивает всех, кто был на том прослушивании! Я помню, Вяземский тогда особенно язвил…
– А кто еще там был? Кто?!
Волков остановился возле группы музыкантов. Его появление заставило их умолкнуть. Они смотрели на него с надеждой и ужасом.
– Прослушивании? – спросил он, глядя на говорившего, пожилого тромбониста. – О каком прослушивании идет речь?
Тромбонист испуганно огляделся, но страх смерти оказался сильнее страха перед начальством.
– Да было давно… лет пятнадцать-семнадцать назад… – забормотал он. – Юнец какой-то из провинции приехал, самородок. Орлов собрал комиссию. Зобель там был, Вяземский… еще несколько человек. Они его… разнесли в пух и прах. Смеялись над ним.
– Кто еще был в той комиссии? – надавил Волков.
Музыкант начал загибать пальцы, его лицо исказилось от напряжения.
– Ну… виолончелист наш, Полонский… Гобоист Клюев, но он уж давно на пенсии… И сам Орлов, конечно. Он председательствовал.
Зобель. Вяземский. Полонский. Клюев. Орлов.
Список. У убийцы был список. Он не импровизировал. Он методично, такт за тактом, исполнял свою смертельную партитуру.
В этот момент по коридору, рассекая толпу перепуганных музыкантов, как ледокол, шел сам Орлов. Его лицо было подобно античной маске трагедии, но в глазах плескался холодный, неприкрытый ужас.
– Следователь! – он схватил Волкова за рукав. Его холеные пальцы дрожали. – Что происходит?! Это бойня! Вы должны это остановить! Поставьте охрану у театра, у квартир каждого из нас!
– Я делаю все, что могу, Валентин Платонович, – спокойно ответил Волков, высвобождая руку. – Но чтобы остановить его, мне нужно понять, кого он преследует. Вспомните. Прослушивание. Семнадцать лет назад. Юноша из провинции.
Лицо Орлова окаменело. Маска треснула, и на мгновение Волков увидел под ней лицо перепуганного, виноватого человека.
– Я не помню никаких юношей! – отрезал он. – У меня их были сотни! Это работа полиции, а не моя! Обеспечьте безопасность моих людей!
Он развернулся и зашагал прочь, но его царственная осанка была сломлена. Он шел, как человек, который слышит за спиной шаги своей судьбы.
Вечером Волков сидел в своей квартире на Васильевском острове. За окном выла метель. Снег залеплял стекла, отрезая его от остального мира. Он не зажигал лампу. В полумраке комнаты, освещаемой лишь отблесками уличных фонарей на снегу, он чувствовал себя спокойнее.
Он снова и снова думал о «настройщике». Тихий, неприметный человек, который приходит и уходит, не привлекая внимания. Человек, который знает музыку изнутри, знает ее механику, ее анатомию. Он мог быть кем угодно – реставратором, мастером по изготовлению инструментов, настройщиком роялей. Он был одним из тех невидимых людей, на которых держится весь этот блестящий мир, но которых никто не замечает. Идеальная маскировка.
Волков встал и подошел к своему роялю. Пыльный чехол лежал на нем, как саван. Он не решался его снять. Но сегодня что-то изменилось. Он медленно стянул тяжелую ткань. Клавиши блеснули в сумраке, как оскал черепа.
Он сел на банкетку. Его правая рука сама легла на клавиатуру. Пальцы помнили. А левая… левая лежала на колене, как мертвая птица. Бесполезная, изуродованная. Он смотрел на нее, и в нем поднималась волна застарелой, выжженной ненависти. Ненависти к огню, к судьбе, к музыке, которая его предала.
И вдруг он понял.
Он понял природу того, с кем столкнулся. Это была не просто месть. Это была искаженная, чудовищная любовь. Убийца не ненавидел музыку. Он обожал ее. Он жил ею. Его лишили возможности служить ей, и тогда он заставил ее служить себе – своему гневу, своей боли, своей мести. Каждое убийство было для него актом высшего, извращенного искусства. Он не мог создавать гармонию, и поэтому он начал творить идеальный, выверенный до последней ноты диссонанс.
Волков поднял правую руку и одним пальцем нажал три клавиши. Те самые три ноты. Они прозвучали в тишине комнаты – коротко, тревожно, оборванно.
Он знал теперь, без всяких сомнений, что это не конец. Это даже не середина. Ужас будет нарастать. Убийца будет действовать быстрее, наглее. Он будет повышать ставки, пока не дойдет до своего грандиозного, оглушительного финала. И где-то там, в конце этой кровавой партитуры, его ждала последняя цель. Дирижер. Валентин Платонович Орлов. А до него… до него были еще виолончелист Полонский и старик-гобоист Клюев.
Следователь сыскной полиции Порфирий Волков сидел в темноте перед молчащим роялем и впервые за всю свою карьеру чувствовал, что он не просто расследует преступление. Он слушал симфонию. И ему нужно было научиться читать ее партитуру быстрее, чем ее допишет безумный композитор. Иначе финал этой музыки похоронит под собой весь город.
Ноты, написанные болью
Метель унялась к рассвету, оставив после себя город, укутанный в безупречно белый, толстый саван. Тишина, наступившая после ночного воя ветра, была неестественной, словно мир затаил дыхание в ожидании следующего удара. В анатомическом театре Обуховской больницы эта тишина приобретала иное качество. Она была плотной, выстуженной, пропитанной запахом карболки и тем едва уловимым, пресным духом небытия, который не мог вытравить никакой сквозняк. Здесь тонул даже скрип собственных сапог Волкова по каменному полу.
Он стоял у цинкового стола, на котором под грубой холстиной угадывались очертания человеческого тела. Вяземский. Волков не стал просить, чтобы его открыли. Ему было достаточно того, что он видел вчера. Он ждал доктора Лебедева, патологоанатома, человека, чье ремесло заключалось в том, чтобы заставлять мертвых рассказывать свои последние истории на языке синяков, ядов и разорванных тканей.
Дверь в дальнем конце зала отворилась, и вошел сам Лебедев. Невысокий, плотный, с окладистой бородой, похожей на припорошенную снегом мочалку, и удивительно живыми, проницательными глазами за стеклами пенсне. Он не ходил, а как-то перекатывался с ноги на ногу, словно вечно боролся с невидимой качкой. В руках он держал тонкую картонную папку.
– Доброго утра, Порфирий Иванович, – его голос был неожиданно мягким, почти вкрадчивым, совершенно не вязавшимся с его грузной фигурой. – Хотя какое уж оно доброе.
Он подошел к соседнему столу, на котором в стеклянных чашках Петри лежали два небольших фрагмента желтоватой бумаги – те самые нотные листы. Рядом стоял микроскоп и несколько колб с реактивами.
– Не стал вас утруждать поездкой в лабораторию. Решил, что в такой обстановке наш разговор будет… предметнее, – Лебедев кивнул на покрытое тело.
Волков молча кивнул в ответ, подходя ближе. Смирнов, стоявший поодаль, старался дышать через рот и не смотреть на цинковые столы. Его научный подход к сыску давал сбой перед лицом такой откровенной, физиологической изнанки смерти.
– Вы просили провести экспертизу «чернил», – начал Лебедев, аккуратно надевая резиновые перчатки. – Что ж, ваша интуиция, как всегда, оказалась точнее любого химического анализа. Это кровь. Человеческая. Без малейших примесей. Гемоглобин, фибрин, эритроциты – все на месте.
Это не было новостью. Волков знал это с того самого момента, как увидел первый лист в квартире Зобеля. Но одно дело – интуитивное знание, и совсем другое – холодный, неоспоримый факт, озвученный в мертвецкой. Факт, который превращал убийцу из простого душегуба в некое подобие жреца, совершающего кровавый ритуал.
– Кровь жертв? – спросил Смирнов, заставив себя подойти ближе. Его голос звучал напряженно.
– Вот тут, молодой человек, и начинается самое интересное, – Лебедев поправил пенсне и взял в руки пинцетом первый образец, тот, что был найден у Зобеля. – Я сравнил группу крови с этого листа с кровью самого Льва Борисовича. Несовпадение. У Зобеля была третья группа, довольно редкая. Кровь на нотах – вторая. Самая распространенная.
Смирнов нахмурился.
– То есть, убийца использовал чью-то чужую кровь? Или свою собственную?
– Насчет своей – не могу сказать. У нас нет его образцов, – развел руками Лебедев. – Но чужую – да. Возможно, это кровь какой-то предыдущей, неизвестной нам жертвы. Или же он специально раздобыл ее где-то, чтобы еще больше запутать следствие.
Это была логичная версия, но Волкова она не устраивала. Она была слишком простой для того изощренного ума, с которым они столкнулись. В действиях их противника не было ничего случайного, ничего лишнего. Каждая деталь была нотой в его партитуре.
– А второй лист? – спросил Волков, глядя на образец из квартиры Вяземского. – Тот, что был у флейтиста.
Лебедев отложил первый образец и взял второй. Его живые глаза вдруг стали серьезными, почти мрачными. Он посмотрел на Волкова поверх пенсне, и в его взгляде следователь прочел не просто научный интерес, а глубокое, человеческое потрясение.
– А вот здесь, Порфирий Иванович, начинается то, что я сам не сразу смог принять. То, что выходит за рамки обычной криминалистики и уходит куда-то в область… патологической психологии. Или демонологии, уж не знаю.
Он сделал паузу, давая словам повиснуть в стылом воздухе.
– Я сравнил кровь со второго листа, от Вяземского, с образцами обоих покойных. У Вяземского была первая группа. Так вот, кровь на его послании – не его. И не та вторая группа с первого листа. Кровь, которой написаны ноты для Вяземского, имеет третью группу. Редкую третью группу.
Волков почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось и полетело вниз. Холод, до этого бывший лишь внешним, физическим ощущением, проник в самую его суть. Он уже знал ответ, но ему нужно было услышать его вслух.
– Это кровь Зобеля, – произнес он глухо.
Лебедев медленно кивнул.
– Один в один. Нет ни малейшего сомнения. Послание, найденное у второй жертвы, написано кровью первой.
Смирнов побледнел так, что его аккуратные усы показались вдруг чужеродным, приклеенным пятном на пергаментном лице. Он отшатнулся от стола, словно от него пахнуло не карболкой, а самой преисподней.
– Но… как? – прошептал он. – Этого не может быть… Чтобы взять кровь, он должен был… вернуться на место преступления? Или… он унес ее с собой? Господи, это… это чудовищно.
Волков не слушал его. Его мозг работал с лихорадочной, обжигающей ясностью. Картина, до этого бывшая лишь набором разрозненных, пугающих мазков, вдруг сложилась в единое, уродливое полотно. Цепь. Он выстраивал кровавую цепь.
Это было похоже не на озноб, а на внезапно наступившую внутреннюю зиму. Он представил это с жуткой, осязаемой ясностью. Убийца стоит над телом Зобеля. Вокруг хаос, разгромленная мебель, осколки фарфора. Но он спокоен. Он не спешит. Он – творец в своей мастерской. Он достает какой-то сосуд – флакон, пузырек – и методично, как аптекарь, собирает материал для своего следующего произведения. А потом, через день, он сидит где-то в своей тайной келье, в своей мастерской тишины, и, обмакивая перо в еще не до конца свернувшуюся кровь скрипача, выводит на пожелтевшем листе три ноты. Три такта реквиема для флейтиста.
– Он не просто пишет кровью, – проговорил Волков, и его собственный голос показался ему чужим. – Он создает преемственность. Он связывает их всех воедино не только общей виной из прошлого, но и общей смертью в настоящем. Каждый следующий умирает, получив послание, написанное частью того, кто умер до него. Это ритуал. Жертвоприношение, где каждая новая жертва освящается кровью предыдущей.
– Но позвольте, Порфирий Иванович! – Смирнов, оправившись от первого шока, попытался вернуть разговор в русло логики. – Это не укладывается в голове! Это… средневековье какое-то! Зачем такая сложность? Какой в этом практический смысл?
– Никакого, – отрезал Волков. – В этом нет практического смысла. В этом есть смысл символический. Эстетический, если хочешь. Наш убийца – не разбойник с большой дороги. Он художник. Безумный, жестокий, но художник. Для него процесс не менее важен, чем результат. Он не просто мстит. Он творит. Он создает свою симфонию ужаса, и кровь для него – это и чернила, и краска, и смычок, извлекающий из мира звуки боли.
В его левой руке вспыхнула острая, режущая боль, будто невидимое лезвие прошло по старым, изувеченным сухожилиям. Он сам когда-то жил этим – одержимостью формой, чистотой звука, идеальной фразировкой. Он понимал эту извращенную логику перфекциониста, доведенную до абсолютного, кровавого предела. Человек, который так тщательно выстраивает свой замысел, не мог просто взять чью-то случайную кровь для первого послания. Нет. Эта кровь тоже должна была иметь значение.
– Лебедев, – он резко обернулся к доктору. – Та, первая кровь. Вторая группа. Вы сказали, самая распространенная.
– Да. Статистически, почти у сорока процентов населения Империи. Найти ее источник – все равно что искать иголку в стоге сена.
– А если это не иголка? – Волков впился взглядом в доктора. – А если это сам стог сена? Что, если это не кровь одного человека? А смешанная кровь? Возможно ли это определить?
Лебедев задумался, потирая свою бороду.
– Смешанная… Теоретически – да. Если бы там были разные группы, я бы увидел агглютинацию, склеивание эритроцитов. Но если смешать кровь нескольких людей с одной и той же второй группой… Нет, Порфирий Иванович. Наши методы не позволят этого утверждать наверняка. Это будет просто кровь второй группы, возможно, с некоторыми аномалиями в составе плазмы, но не более. Я могу провести более детальный анализ, но… не обещаю результата.
Волков кивнул. Он и не ждал его. Это была лишь догадка, рожденная из попытки понять чудовищную логику убийцы. Но она казалась ему верной. Первая нота, написанная болью многих, чтобы начать симфонию смерти для нескольких.
Они покинули анатомический театр и вышли на морозный, ослепительно белый свет. Снег скрипел под ногами, и этот звук казался оглушительным после давящей тишины мертвецкой. Смирнов молчал всю дорогу до Гороховой. Он переваривал услышанное, и Волков видел, как в его сознании рушится привычная, упорядоченная картина мира, где у каждого преступления есть простой, земной мотив – деньги, ревность, власть. Здесь мотивом было само безумие, возведенное в ранг искусства.
Уже в участке, в пропахшем табаком кабинете Волкова, Смирнов наконец заговорил.
– Если вы правы, Порфирий Иванович… Если он действительно использует кровь предыдущей жертвы… Это меняет все. Это значит, что между смертью Зобеля и тем, как Вяземский получил свое послание, был промежуток. Убийца должен был забрать кровь, уйти, подготовить новое письмо и доставить его.