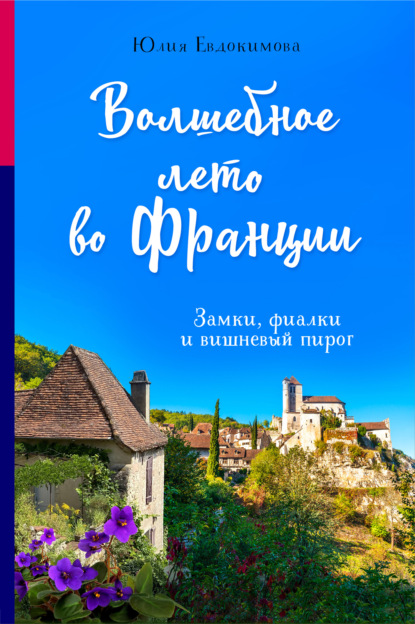Три последние ноты

- -
- 100%
- +
– Совершенно верно, Аркадий, – Волков налил себе в стакан воды из графина, но рука его на мгновение замерла над фляжкой с коньяком, стоявшей в ящике стола. Он с усилием поборол искушение. Сейчас ему нужна была ясная голова. – Он не импровизирует. У него есть план, расписанный по часам. И «настройщик», приходивший к Вяземскому, – часть этого плана. Он пришел не только подсыпать яд. Он пришел доставить послание и установить пюпитр. Он сам готовит сцену для каждого своего акта.
– Но как он проник к Зобелю после убийства? Мы же почти сразу приехали, – Смирнов ходил по кабинету из угла в угол, его шаги отбивали тревожный ритм. – Мы были там. Охрана была внизу.
– Он мог взять кровь сразу, – возразил Волков. – Сразу после убийства. Это занимает не больше минуты. Флакон в кармане, быстрая, отточенная процедура. И ушел. А весь этот разгром, инсценировка ограбления – лишь дымовая завеса, чтобы мы искали домушников, а не призрака.
Он сел за стол и взял чистый лист бумаги. Вверху он вывел два имени, которые назвал ему вчера перепуганный тромбонист.
Полонский.
Клюев.
Виолончелист и отставной гобоист. Следующие цели. Следующие ноты в этой дьявольской партитуре.
– Аркадий, – он поднял глаза на помощника. – Забудьте про купца Хвостова. Это тупик. Все силы – сюда. Найдите мне этого Полонского. Немедленно. Приставьте к нему двух лучших филеров. Не спускать с него глаз ни на секунду. Пусть следят за каждым, кто подходит к его двери. За почтальоном, за молочником, за трубочистом. Особенно – за любым мастером или настройщиком. И никакого чая с незнакомцами.
– Будет сделано, Порфирий Иванович.
– И Клюева. Гобоиста. Он на пенсии, значит, сидит дома. Это делает его еще более уязвимым. Узнайте его адрес, пошлите туда городового. Предупредите его. Пусть никого не впускает. Ни под каким предлогом. Мы должны сыграть на опережение. Мы знаем его следующие ходы. Мы должны сорвать его концерт.
Смирнов кивнул, его лицо стало собранным и решительным. Ужас сменился действием. Он схватил со стола листок с именами и выскочил из кабинета.
Волков остался один. Он смотрел на пустой теперь стол, где еще час назад лежала зарисовка кровавых нот. Ноты, написанные болью. Чьей болью была написана первая? Чья анонимная, забытая трагедия стала увертюрой к этой бойне? Он снова подумал о прослушивании, о безымянном юноше из провинции, которого растоптали и высмеяли. Возможно, ответ был там. В той старой, замятой истории, которую все так старались забыть.
Он встал и подошел к окну. Внизу, по Гороховой, текла обычная городская жизнь. Извозчики ругались, торговки несли корзины с провизией, важный чиновник спешил по делам, подняв каракулевый воротник. Они ничего не знали. Они жили в своем мире, где музыка звучала в театрах и гостиных, а смерть была чем-то, что случается с другими и о чем пишут в газетах.
Но он, Порфирий Волков, теперь знал, что по этому самому городу, возможно, по этой самой улице, сейчас идет тихий, неприметный человек. Человек, в кармане которого, может быть, лежит флакон с кровью Иннокентия Вяземского. Человек, который уже обдумывает, как будет выглядеть следующий акт. Как умрет виолончелист Полонский. И какую мелодию он услышит перед смертью.
И от этой мысли воздух в легких снова стал ледяным и колючим, как битое стекло. Они не опережали убийцу. Они лишь пытались угадать его следующий такт в уже написанной им симфонии. И пока они этого не сделают, музыка смерти будет продолжаться.
Призраки Мариинской сцены
Архив Мариинского театра не был хранилищем истории; он был ее склепом. Помещения, выделенные под него в самом чреве здания, под сценой и вдали от парадных лестниц, никогда не видели прямого солнечного света. Воздух здесь был неподвижен и тяжел, он пах не просто пылью, а тлением бумаги, мышиным пометом и тем специфическим, сладковатым запахом ушедшего времени, который бывает только в заброшенных церквях. Газовые рожки на стенах шипели неровно, их тусклый желтый свет выхватывал из полумрака стеллажи, уходившие в невидимую высоту – костяные ребра какого-то доисторического левиафана, проглотившего сто лет музыки, интриг и человеческих судеб.
Порфирий Волков стоял посреди этого царства забвения и чувствовал, как холод проникает не в тело, а прямо в душу. Это было место, где амбиции превращались в пожелтевшие приказы о назначении, а триумфы – в выцветшие афиши, сложенные в стопки, толстые, как надгробные плиты. Его помощник, Смирнов, остался на Гороховой, получив четкие инструкции по организации охраны Полонского и поиску отставного гобоиста Клюева. Волков же взял на себя погружение в прошлое. Он нутром чуял, что ключ к настоящему ржавеет где-то здесь, в этих кипах бумаг, в каком-нибудь неприметном протоколе или забытом списке.
Хранителем этого бумажного некрополя был человек по фамилии Протопопов, существо почти бестелесное, с лицом цвета старого пергамента и сухими, шелестящими пальцами. Он сидел за конторкой, заваленной фолиантами, и смотрел на Волкова поверх очков с таким видом, будто следователь пришел просить у него взаймы не папку с документами, а собственную бессмертную душу.
– Годовые отчеты по составу оркестра за последние двадцать лет, – повторил Волков, стараясь, чтобы его голос не выдавал нетерпения. – Личные дела, приказы о зачислении, увольнении, выговорах. Все, что касается первой и второй скрипок, флейт, виолончелей и гобоев.
Протопопов издал звук, похожий на шорох переворачиваемой страницы.
– Это, милостивый государь, колоссальный объем работы. Вам потребуется официальный запрос от самой дирекции, с печатью и подписью его превосходительства, – он указал костлявым пальцем на стопку бланков. – И даже в этом случае… Понимаете ли вы, что такое двадцать лет театральной жизни? Это не просто имена. Это судьбы. Нарушать их покой без веской причины…
– У меня есть две веские причины, – прервал его Волков, и в его голосе прорезался металл. – Они лежат в Обуховской больнице. И если мы не поторопимcя, к ним могут присоединиться новые. Так что давайте мы опустим бюрократическую увертюру и перейдем сразу к основной части. Ваше начальство в курсе. Орлов отдал распоряжение оказывать мне полное содействие.
Он не повышал голоса, но каждое слово ложилось на конторку архивариуса с весом свинцовой пули. Протопопов поморщился, словно съел кислый крыжовник, но спорить не стал. Он поднялся со своего скрипучего стула, взял со стены связку ключей, звякнувших похоронным перезвоном, и повел Волкова вглубь стеллажей.
Ему выделили стол в небольшом закутке, куда свет от газового рожка едва дотягивался. На стол начали ложиться тяжелые, перетянутые тесемками папки. От них исходил тот самый запах тлена, который, казалось, уже въелся Волкову под кожу. Он развязал первую тесемку. 1878 год. Список оркестрантов. Каллиграфически выведенные имена, должности, оклады. Он начал читать, погружаясь в монотонный ритм чужих жизней. Фамилии, имена, отчества… Валторнист Петров, произведен в солисты. Скрипач Забельский, уволен за пьянство. Флейтист Покровский, отбыл в Париж на гастроли…
Часы потекли, как густой сироп. Волков перебирал листы, и его пальцы покрывались серой, бархатистой пылью. Он чувствовал себя археологом, раскапывающим древнее захоронение в надежде найти не сокровища, а лишь причину гибели целой цивилизации. Он искал не имя. Он искал аномалию, сбой в идеально выстроенном механизме театральной жизни. Скандал, который должен был оставить след – приказ об увольнении целой группы музыкантов, внезапные кадровые перестановки, пустые строки в штатном расписании.
Папка за папкой. Год за годом. Имена менялись. Одни уходили на покой, другие умирали, на их место приходили новые. Зобель, Вяземский, Полонский – их имена начали появляться в списках в начале восьмидесятых, молодые, полные надежд музыканты, постепенно занимавшие свои места в оркестровой иерархии. Но ничего необычного. Никаких массовых увольнений. Никаких громких скандалов, отраженных в сухом языке приказов. Все текло гладко, благопристойно, как по нотам.
Левая рука заныла тупой, изматывающей болью. Волков размял изуродованные пальцы. Он смотрел на списки музыкантов, и ему казалось, что это бесконечная, унылая партитура, в которой нет ни крещендо, ни диминуэндо, только серое, монотонное легато. Он чувствовал, как его засасывает это бумажное болото, как воля и концентрация тонут в море бессмысленных фамилий. Убийца не мог не оставить следа. Такая ярость, такая одержимость должны были родиться из события незаурядного, оглушительного, как удар литавр в полной тишине. А здесь была только тишина. Казенная, выхолощенная, мертвая.
Он откинулся на спинку стула, закрыв глаза. В темноте перед внутренним взором плыли строчки, сливаясь в неразборчивую вязь. Он ошибся. Убийца был умнее. Он знал, что официальная история всегда пишется победителями. Скандал, о котором шептались в оркестровой яме, был тщательно вычищен из всех документов. Его просто не существовало. Он был призраком. А как найти документальное подтверждение существования призрака?
Волков встал и прошелся по узкому проходу между стеллажами, вдыхая пыль веков. Он был в тупике. Смирнов охранял живых, а он, Волков, не мог найти мертвых. Он зашел так далеко в прошлое, что потерял след.
Он покинул душный архив и вышел в один из служебных коридоров театра. Здесь было немногим лучше. Длинный, слабо освещенный туннель с обшарпанными стенами, вдоль которых тянулись трубы отопления, тихо постанывающие от горячей воды. Пахло сыростью и сценической краской. Из-за какой-то двери доносились глухие звуки настраиваемого рояля – кто-то готовился к вечернему спектаклю, не обращая внимания на страх, поселившийся в этих стенах. Музыка, как и жизнь, должна продолжаться.
Волков бесцельно брел по этому лабиринту, давая голове отдохнуть от напряжения. Он спустился по какой-то винтовой лестнице еще ниже, в подвальные помещения, где хранился реквизит. Здесь, среди картонных замков, деревянных мечей и пыльных тронов, было почти совсем темно. И здесь он его увидел.
В маленькой каморке, похожей на келью отшельника, сидел на табурете древний старик и методично, с какой-то ритуальной сосредоточенностью, начищал до блеска медную ручку от двери зрительного зала. В свете единственной голой лампочки его лысая голова блестела, а кожа на лице, покрытая сетью глубоких морщин, казалась мятой папиросной бумагой. На нем был ветхий, но чистый сюртук капельдинера, настолько старый, что, казалось, он сросся со своим владельцем.
Старик не заметил Волкова. Он был полностью поглощен своим занятием. Его движения были медленными, выверенными, в них чувствовалась мудрость человека, который делал одно и то же дело пятьдесят лет и нашел в этом однообразии свой собственный, никому не понятный смысл. Волков молча наблюдал за ним несколько минут. Этот человек был не просто служащим. Он был частью здания. Он был его памятью, его неписаной историей.
– Добрый день, – тихо сказал Волков, чтобы не напугать старика.
Тот вздрогнул и медленно поднял голову. Его глаза, выцветшие, водянисто-голубые, смотрели на Волкова без удивления, но с глубокой, застарелой усталостью. Так смотрят на очередной сменяющийся акт в бесконечной пьесе.
– И вам не хворать, барин, – прошамкал он беззубым ртом. – Вы к кому? Тут уж никого нет. Все наверху. Боятся.
– Я ни к кому. Я ищу, – Волков подошел ближе и присел на ящик с каким-то реквизитом. – Ищу то, чего нет.
Старик хмыкнул, отложил ручку и взял новый кусок ветоши.
– Это по нашей части. В театре завсегда ищут то, чего нет. Любви вечной, славы нетленной, таланта божественного… А находят завсегда одно и то же. Зависть, интриги да старость в неубранной гримерке.
– Я ищу историю, – сказал Волков. – Старую историю. Лет пятнадцать, может, семнадцать назад. О каком-то скандале на прослушивании.
Старик замер. Его руки, державшие ветошь, на мгновение перестали двигаться. Он не посмотрел на Волкова. Его взгляд ушел куда-то вглубь стены, вглубь самого времени.
– Скандал, – проговорил он почти шепотом. – Нехорошее слово. Шумное. А тогда шума не было. Наоборот. Тишина тогда была. Страшная.
– Расскажите мне, – попросил Волков.
Старик снова принялся за свою работу. Медь тускло блестела под его пальцами.
– А чего рассказывать-то? Я человек маленький. Капельдинер. Мое дело – двери открывать да номерки подавать. Я в дела господ артистов не лезу. Слышал только… краем уха. Да и то, лучше б не слышал.
– Что вы слышали, дедушка? – Волков говорил мягко, терпеливо, как с ребенком или с пугливым свидетелем. – Это очень важно. От этого зависят жизни людей.
Старик вздохнул. Вздох получился длинным, дребезжащим, словно из прохудившихся мехов старой гармони.
– Жизни… Жизнь тогда тоже одна кончилась. Только того никто и не заметил. Приехал мальчишка. Откуда-то из-под Орла, кажись. Худой, в залатанном пальтишке, а глаза горят, как угли. И руки… Я таких рук отродясь не видел. Длинные, нервные, будто не человеческие, а для одной только музыки созданные. Его к прослушиванию допустили. В малый зал.
Он замолчал, вспоминая. Волков не торопил его. Он ждал, понимая, что прикасается к самому источнику трагедии.
– Я тогда в коридоре стоял. Двери были прикрыты, но слышно было хорошо. Сначала он играл что-то по нотам. Баха, кажись. Чисто играл, аж мороз по коже. А потом ему господин Орлов, он тогда еще не такой седой был, говорит: «А ну-ка, голубчик, покажи, что ты сам можешь. Сымпровизируй». И мальчишка… он как начал играть…
Старик снова замолчал, и на его морщинистом лице отразилось эхо давнего потрясения.
– Барин, я слов таких не знаю, чтоб рассказать. Это не музыка была. Это… буря. Гроза. То ли плач, то ли крик. Он будто всю душу свою на эти клавиши выворачивал. Я сорок лет в театре, я и Шаляпина слышал, и Ермолову видел. Но такого – никогда. В зале тишина стояла мертвая. А потом…
Он сглотнул, и его кадык дернулся на худой шее.
– А потом они засмеялись. Сначала один – господин Зобель, царствие ему небесное. Так, хмыкнул презрительно. Потом другой, Вяземский, поддакнул, что-то ядовитое прошептал. А потом и сам Орлов. Громко так, на весь зал. «Что это за какофония, юноша? Вы нам тут уши решили засорить своим провинциальным бредом?» И все остальные – как по команде. Смеялись, как гиены.
Волков сидел не шевелясь. Он видел эту картину так ясно, будто сам стоял за той дверью. Он чувствовал унижение того мальчика каждой клеткой своей кожи, каждой искалеченной связкой в своей руке. Он сам когда-то знал, что такое презрение сытых, уверенных в себе мэтров.
– А мальчик? – спросил он тихо.
– А что мальчик… Музыка оборвалась на полузвуке. Он встал из-за рояля. Я в щелку глянул. Лицо у него было… белое, как вот эта стена. Ни кровинки. Губы только подрагивают. Он ни слова не сказал. Поклонился им. Молча. И вышел. Прошел мимо меня, а я смотрю – он меня и не видит. Глаза пустые, будто в них все выжгли. И пошел к выходу. Больше его никто и не видел. Говорили потом, что утоп вроде как. В Неве. Да дело быстро замяли. Чтоб репутацию господ из комиссии не портить. Вот и вся история. Шум утих, и снова тишина.
Волков долго молчал. Старый капельдинер, закончив с ручкой, отложил ее и взял следующую. Спектакль должен продолжаться. Двери должны блестеть.
– Как его звали? Этого мальчика, – спросил Волков.
Старик покачал головой.
– Не помню, барин. Столько лет прошло. Фамилия какая-то простая… то ли на «Л», то ли на «М». Не упомню. Да и в списках его не найдешь. Тех, кто не прошел, их в особые книги записывали. Не в те, что для артистов. А в те, что для… сора. Для отбракованных.
Волков встал. Он положил руку на плечо старика. Плечо было худым и острым, как у птицы.
– Спасибо, отец. Вы мне очень помогли.
Старик не ответил, лишь кивнул, не отрываясь от своей работы. Он уже снова погрузился в свой мир, где не было ничего, кроме меди, ветоши и бесконечного течения времени.
Волков вышел из подвала, как из могилы. Он снова прошел через гулкие коридоры и оказался в архиве. Протопопов спал за своей конторкой, уронив голову на раскрытый фолиант. Волков не стал его будить. Он знал теперь, что искал. Он искал не в тех книгах.
Он подошел к дальним стеллажам, тем, что стояли в самом темном углу. Здесь папки были еще старше, еще пыльнее. На них не было красивых тисненых надписей. Лишь короткие пометки, сделанные выцветшими чернилами: «Конкурсанты», «Прошения», «Отказы».
Сор. Отбракованные.
Он взял одну из папок. Она была тонкой, почти пустой. На обложке стоял год: 1881. Он открыл ее. Несколько листков, исписанных торопливым почерком секретаря. Имена, даты, вердикты. «Отказать за отсутствием данных». «Слаб в технике». «Недостаточная музыкальность». За каждой этой фразой стояла сломанная судьба, рухнувшая мечта.
Он взял следующую папку. 1882. И еще одну.
Его сердце стучало медленно и тяжело. Он чувствовал себя так, словно вот-вот назовет по имени демона, и тот явится из небытия. Он не знал еще фамилии, но он уже видел его лицо – белое, как стена, с пустыми, выжженными глазами. Он не просто искал улику. Он возвращал имя призраку, которого этот театр породил и похоронил семнадцать лет назад. И он знал, что когда найдет это имя, симфония смерти зазвучит с новой, еще более страшной силой.
Шепот из Орловской губернии
Папка с надписью «Отказы. 1881» была тоньше остальных, словно само отчаяние имело меньший вес, чем успех. Волков провел по шершавому картону кончиками пальцев, ощущая под ними неровности и въевшуюся за семнадцать лет пыль. Он открыл ее с той осторожностью, с какой вскрывают гробницу, боясь потревожить не столько прах, сколько застывшее в неподвижности страдание. Внутри было не больше дюжины листов. Несколько прошений, написанных неуверенным почерком, с грамматическими ошибками, выдававшими волнение и спешку. И к каждому – короткий, безжалостный приговор, начертанный уверенной рукой секретаря.
Он перебирал их один за другим, и имена просителей проплывали перед глазами, как лица утопленников: Ситников, Афанасьев, Григорьев… Все они были лишь прелюдией. И вот, на предпоследнем листе, он нашел его. Имя, которое прозвучало в его сознании не как слово, а как удар камертона по оголенному нерву.
«Прошение от мещанина Орловской губернии Ларина Константина Игнатьевича».
Буквы были выведены с каллиграфической точностью, но в их излишней правильности, в напряженных изгибах и сильном нажиме пера чувствовалась отчаянная попытка произвести впечатление, доказать свою состоятельность еще до того, как прозвучит первая нота. Волков придвинул к себе газовый рожок, и в его неверном, дрожащем свете бумага ожила. К прошению был подшит протокол прослушивания. Сухой, казенный документ, каждая строчка которого была пропитана ядом вежливого равнодушия.
«Протокол №14 от 12 сентября 1881 года.
Заседания приемной комиссии Императорских театров по прослушиванию соискателей на вакантные места в оркестре.
Председатель: капельмейстер Орлов В. П.
Члены комиссии: концертмейстер Зобель Л. Б., флейтист Вяземский И. П., виолончелист Полонский А. Г., гобоист Клюев С. Д.
Слушали: Ларина Константина Игнатьевича, 17 лет, сословие – мещанин. Инструмент – фортепиано (представлен как композитор-импровизатор).
Программа: И. С. Бах, Прелюдия и фуга до-диез минор (ХТК, том I).
Исполнение: технически безупречное, однако отмечена излишняя экспрессия, не соответствующая строгости барочного стиля.
Импровизация на предложенную тему: продемонстрировано нетривиальное владение гармонией и свободное обращение с музыкальной формой. Вместе с тем, комиссия отмечает склонность соискателя к хаотичному развитию темы, нарушение канонической формы и то, что может быть охарактеризовано как слуховая экзальтация, граничащая с аффектацией. Музыкальный материал отличается сыростью и отсутствием академической школы.
Заключение: Принимая во внимание юный возраст соискателя и несомненные природные данные, комиссия, однако, не находит возможным рекомендовать Ларина К. И. к зачислению в состав Императорского оркестра ввиду отсутствия должного образования и стилистической незрелости. Рекомендовать соискателю продолжить обучение в рамках провинциальной музыкальной школы с целью приведения его дарования в соответствие с принятыми академическими нормами.
Подписи…»
Волков читал и перечитывал. Слова были гладкими, обтекаемыми, как речная галька, но под их поверхностью он чувствовал острые, режущие края. «Излишняя экспрессия». «Слуховая экзальтация». «Приведение дарования в соответствие». Это был не протокол. Это был смертный приговор, вынесенный гению судом посредственностей. Они не услышали музыку. Они услышали угрозу своему уютному, понятному миру, где все разложено по полочкам, где у каждой ноты есть свое законное место. А он принес им бурю, и они испугались, что их смоет. И потушили ее самым простым способом – презрением.
Фантомная боль в левой руке скрутила пальцы в тугой, беспомощный узел. Он сам когда-то сидел на таких прослушиваниях, еще до пожара, до того, как его мир сгорел дотла. Он помнил эти оценивающие, холодные взгляды, эти снисходительные улыбки, этот вежливый тон, которым тебе сообщают, что твое сердцебиение не попадает в их метроном. Но его судили за ошибки. А этого мальчика, Ларина, судили за их отсутствие. Его судили за то, что он был другим. За то, что его душа звучала громче, чем позволяли стены их храма.
За протоколом в папке было еще несколько листов. Личное дело. Волков развернул первый. Это было рекомендательное письмо от регента орловского кафедрального собора, написанное на дешевой бумаге бисерным, убористым почерком.
«Его Высокоблагородию Директору Императорских театров!
Смею утруждать Ваше внимание нижайшей просьбой за воспитанника нашего, сироту Константина Ларина. Мальчик сей с раннего детства проявил дар Божий к музыке, каковой я, грешный, за сорок лет служения в хоре не видывал. Слух его абсолютен до того, что слышит он фальшь не токмо в пении, но и в звоне колокольном, отчего немало беспокойства доставляет нашему звонарю. Обучившись грамоте нотной самоучкой, на старом расстроенном клавикорде, он в двенадцать лет уже сочинял фуги, сложностью своей посрамившие бы иного столичного органиста. Он не играет музыку, Ваше Высокоблагородие, он ею дышит, ею мыслит, ею молится. Талант его – самородок, неограненный алмаз, коему место лишь в сокровищнице Вашего прославленного театра. Прошу Вас, не дайте этому божественному огню зачахнуть в нашей губернской глуши…»
Волков отложил письмо. От наивной, восторженной веры старого регента веяло такой трогательной искренностью, что на сердце стало тяжело. Он представил себе этого мальчика, сироту, впитавшего музыку с перезвоном орловских колоколов, который едет в столицу, полный надежд, сжимая в кармане это письмо, как талисман. Едет в свой Иерусалим, а попадает на Голгофу.
Второе письмо было от уездного учителя музыки, некоего Запольского. Тон его был иным – более светским, но не менее страстным.
«…его гармоническое мышление не укладывается в рамки учебников, которые я осмеливаюсь ему преподавать. Зачастую я чувствую себя не учителем, а лишь непосвященным свидетелем таинства. Он слышит созвучия, недоступные простому смертному уху, он строит музыкальные фразы с такой дерзостью и первозданной силой, что мне порой кажется, будто я имею дело не с мальчиком, а с духом самой музыки, случайно облекшимся в плоть. Я не боюсь показаться смешным, но, видя, как он, закрыв глаза, импровизирует за роялем, я не могу отделаться от мысли, что передо мной – второй Моцарт, рожденный по ошибке не в Зальцбурге, а в нашей скромной Орловской губернии…»
Второй Моцарт. А комиссия услышала «провинциальный бред». Волков с силой зажмурился. Контраст между этими письмами, полными любви и восхищения, и холодным протоколом был чудовищен. Это было столкновение двух миров: мира искренней веры в чудо и мира казенного, завистливого порядка. И порядок победил. Вернее, ему показалось, что он победил.
В самом низу, на дне папки, лежало то, чего Волков не ожидал увидеть. Несколько листов нотной бумаги, исписанных тем же напряженным, каллиграфическим почерком, что и прошение. Это была его музыка. Композиция без названия. Волков, бывший музыкант, смотрел на эти ноты, и ему не нужно было пианино, чтобы их услышать. Музыка звучала у него в голове.
Она была странной. Дикой, порывистой, полной диссонансов, которые, однако, разрешались в гармонии такой пронзительной красоты, что перехватывало дыхание. Ритм сбивался, тональности сменяли друг друга с головокружительной быстротой. Это была музыка человека, который не знал правил, потому что ему не нужны были чужие костыли. Он сам был законом для своего мира. В этих чернильных значках на бумаге было больше правды, больше боли и больше жизни, чем во всех прилизанных партитурах, которые он слышал за последние годы в Мариинском. И это… это они назвали «сырым материалом».