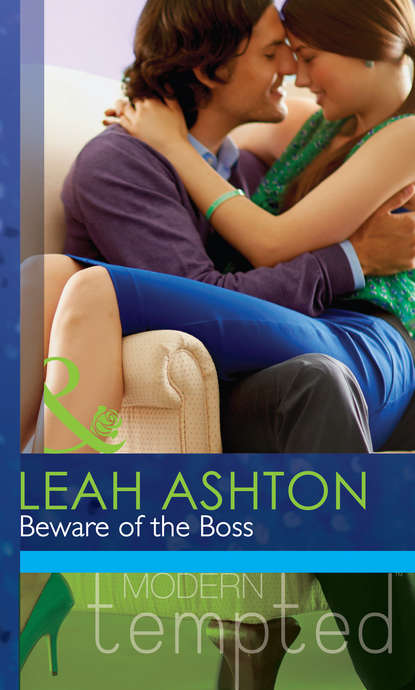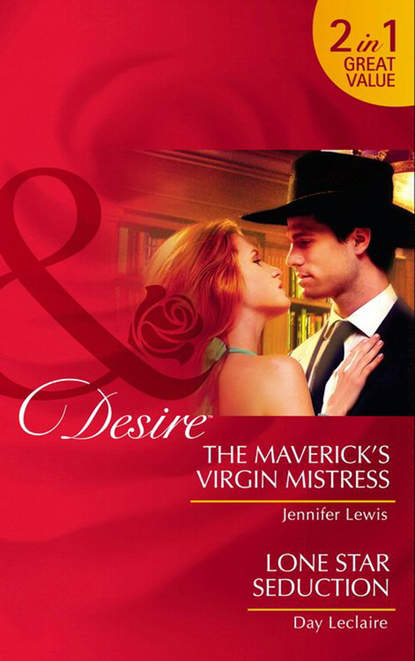Убийства на Никольской улице

- -
- 100%
- +

Белая лилия на грязном снегу
Низкий, промозглый туман, пахнущий угольной гарью и стылой речной водой, лениво сползал с Воробьевых гор, цепляясь за купола бесчисленных церквей, и к предутреннему часу поглощал Москву целиком. Он превращал знакомые улицы в призрачные коридоры, где каждый звук тонул в серой вате, а свет газовых фонарей казался не маяком, а обманчивым блуждающим огоньком над топью. Город еще спал беспокойным, некрепким сном, вздрагивая от редкого цокота копыт запоздалого извозчика или далекого, хриплого лая.
Для дворника Ферапонта, отставного унтер-офицера с седыми бакенбардами и спиной, прямой, как ружейный шомпол, этот туман был лишь очередной досадой, делавшей брусчатку скользкой и холодной. Он вышел во двор задолго до первого колокольного звона, как делал это последние двадцать лет, с тех самых пор, как променял лязг сабель на скрежет лопаты. Его мир был прост и упорядочен: расчистить снег у ворот, посыпать песком лед, убедиться, что околоточный не дремлет на своем посту. Но сегодня привычный ритуал был нарушен.
В самой глубине подворотни, там, где тени были гуще всего и всегда пахло мочой и кислым пивом из соседнего трактира, Ферапонт заметил темный узел, присыпанный свежим, но уже грязным снежком. Сперва он принял его за брошенный кем-то тюк с тряпьем. Пьяные мастеровые или нищие с Хитровки нередко искали здесь ночлег, оставляя после себя всякий хлам. Старик раздраженно крякнул и ткнул в узел черенком лопаты. Тюк не пошевелился, лишь с него соскользнула шапка снега, обнажив бледное пятно, оказавшееся человеческой щекой.
Ферапонт замер, лопата выпала из ослабевших рук и глухо стукнулась о мерзлую землю. Он видел смерть много раз – на полях сражений, в госпиталях, на улицах холерного города. Но к ней невозможно было привыкнуть. Особенно к такой – тихой, будничной, сиротливой. Он подошел ближе, перекрестился широким, привычным жестом. Молодая женщина, почти девушка, лежала на боку, поджав колени, словно ей было очень холодно. Ее дешевое ситцевое платье, сбившись, открывало худые лодыжки в стоптанных, прохудившихся ботинках. Лицо, обращенное к нему, было спокойным, почти безмятежным, с тонкой корочкой инея на ресницах.
Через четверть часа, когда туман начал редеть, уступая место мутному, неохотному рассвету, в подворотне стало людно. Околоточный надзиратель Сидоров, грузный мужчина с багровым от мороза и многолетних возлияний лицом, лениво оттеснял зевак и что-то записывал в свою засаленную книжицу. Рядом с ним топтался городовой, поглядывая по сторонам с видом человека, которому вся эта суета глубоко безразлична.
– Ну что тут, Митрич? – спросил Сидоров у Ферапонта, выдыхая облако пара с запахом перегара. – Ты ее знаешь?
– Как не знать, ваше благородие, – вздохнул дворник. – Катенька. Смирнова, кажись. Снимала угол у Марьи в ночлежке. Гулящая.
– Гулящая, – удовлетворенно повторил околоточный, словно это слово объясняло всё. – Ясно. Перебрала вчерась в трактире, да и прилегла отдохнуть. А мороз свое дело знает. Околела, бедолага. Пиши, Ефим, – бросил он городовому, – тело женского пола, без видимых признаков насильственной смерти. Причина – переохлаждение.
Сидоров уже готов был закрыть книжку и отправиться в участок греться чаем, когда со стороны улицы послышался скрип полозьев и требовательный окрик извозчика. К подворотне подкатила пролетка, из которой вышел высокий, худощавый господин в добротном суконном пальто и бобровой шапке. Его движения были точны и лишены суеты, а серые, очень внимательные глаза под густыми бровями, казалось, фиксировали каждую деталь еще до того, как он ступил на грязный снег двора.
– Судебный следователь Вольский, – представился он, предъявляя Сидорову удостоверение. Голос его был ровным и холодным, как февральский воздух. – Меня известили о происшествии. Что у вас здесь?
Сидоров смерил его недовольным взглядом. Эти новые, ученые следователи из Судебных установлений были для него костью в горле. Они совали нос в простые и понятные дела, требовали каких-то протоколов, улик, путали всю отчетность и мешали спокойно работать.
– Да ничего особенного, ваше благородие, – пробурчал он. – Девка гулящая замерзла. Дело житейское. Мы уж тут почти закончили. Сейчас в анатомический покой ее, и все дела.
– Вы так уверены? – бровь Вольского едва заметно изогнулась. – Врачебное освидетельствование уже было проведено?
Околоточный смешался.
– Какое тут освидетельствование… И так все ясно.
– Мне – неясно, – отрезал Аркадий Петрович. Он не стал больше тратить время на пререкания. Обойдя Сидорова, он подошел к телу. В отличие от полицейского, он не выказывал ни брезгливости, ни торопливости. Он опустился на одно колено, не обращая внимания на грязь, и его взгляд начал свою методичную, въедливую работу.
Сначала – общее впечатление. Поза. Девушка лежала неестественно аккуратно, словно ее не бросили, а уложили. Одежда была хоть и бедной, но чистой, не порванной, без следов борьбы. Вольский осторожно, кончиками пальцев в перчатке, приподнял голову покойной. Тонкая, бледная шея… Он наклонился ниже, почти касаясь щекой холодного лица. И увидел то, что пропустил или не захотел увидеть околоточный. На коже, чуть ниже линии подбородка, проступала тонкая, едва заметная бороздка, темная полоса, опоясывающая шею. Не синяки от грубых пальцев, а ровный, четкий след, оставленный, скорее всего, шнуром или тонкой веревкой.
– Она не замерзла, – произнес он тихо, но так, что его слова прозвучали в утренней тишине оглушительно. – Ее задушили.
Сидоров засопел, его лицо приобрело цвет перезрелой свеклы. Городовой испуганно переступил с ноги на ногу.
– Да помилуйте, ваше благородие… Откуда ж тут…
– А вы осмотрите следы, – Вольский указал на снег вокруг тела. – Вот ваши, вот дворника, вот любопытных. А вот, – он ткнул тростью в цепочку отпечатков, ведущих из подворотни на улицу, – эти следы глубже остальных. Человек шел один, но нес на себе тяжесть. Он принес ее сюда уже мертвой. Или почти мертвой.
Аркадий Петрович выпрямился, отряхивая с колена налипший снег. Его ум, привыкший к стройной логике законов и параграфов, уже начал выстраивать первую, самую простую версию. Убийство на почве ревности. Или ограбление, хотя брать у несчастной было нечего. Но что-то в этой картине было неправильным, чужеродным. Что-то нарушало привычный порядок вещей для такого рода преступлений.
Он снова посмотрел на жертву. Ее лицо, подернутое синевой, сохранило что-то детское, обиженное. Он обратил внимание на руки. Левая была откинута в сторону, правая же… правая была странно сжата в кулак, прижата к груди, словно она пыталась удержать нечто драгоценное. Этот кулак был единственным напряженным элементом в расслабленном, покорном смерти теле.
Вольский вновь опустился на колени.
– Посветите, – попросил он городового.
Тот поспешно достал фонарь и направил дрожащий луч на руку девушки. Аркадий Петрович осторожно, с усилием, начал разгибать окоченевшие пальцы. Они поддавались медленно, неохотно, с тихим хрустом. Один, второй… И когда он наконец разжал ладонь, все, кто стоял рядом, невольно ахнули.
На грязной, замерзшей коже, в мертвой руке падшей женщины, лежал цветок. Это была белая лилия. Невероятно, невозможно белая, с крупными, упругими лепестками, на которых дрожали капельки росы, еще не успевшие превратиться в лед. Цветок был свежим, словно его только что срезали в оранжерее какого-нибудь великосветского особняка. Он не был помят, не был испачкан. Его нежный, тонкий аромат едва уловимо смешивался с запахами гниющего мусора и холода.
Вольский замер, глядя на это оксюморонное сочетание – на чистоту и смерть, на невинность символа и порок ремесла жертвы. Рациональный, упорядоченный мир в его голове накренился. Это было не просто убийство. Это было послание. Ритуал. Страшное, извращенное произведение искусства. Кто-то не просто лишил эту девушку жизни, он совершил обряд, оставив свою дьявольскую подпись, полную непонятного, пугающего смысла. Лилия на грязном снегу. Чистота, вложенная в руку порока.
Околоточный Сидоров молча перекрестился. Его лицо из багрового стало пепельно-серым. Вся его напускная уверенность испарилась, уступив место суеверному, первобытному страху. Он смотрел на цветок так, словно это была ядовитая змея.
– Что ж это… что ж это такое, господи… – прошептал он.
Аркадий Вольский не ответил. Он медленно поднялся. Холод пробирал до костей, но он его не чувствовал. Его разум лихорадочно работал, отбрасывая простые версии одну за другой. Это не ревность. Не ограбление. Это было нечто иное. Нечто темное, продуманное, иррациональное. Он смотрел на туман, который все еще нехотя клубился в дальнем конце улицы, скрывая за своей пеленой миллионы жизней, тайн и грехов. И он впервые за свою недолгую службу почувствовал, что ему предстоит спуститься в такую глубину московского ада, о существовании которой он, сын профессора права, воспитанный на идеалах просвещения и справедливости, даже не подозревал.
– Никому не трогать, – его голос вновь обрел твердость и металл. – Оцепить всю подворотню. Вызовите мне доктора Шмеллинга из Судебной палаты. И фотографа. Немедленно.
Он отвернулся от тела, но образ белой лилии в мертвой руке уже отпечатался в его памяти, словно дагерротип. Он понимал, что этот цветок, такой прекрасный и неуместный, станет ключом ко всему делу. Или же замком на двери, ведущей в полное безумие. И в этом сером, безразличном свете зарождающегося дня, неестественная белизна цветка казалась единственной несомненной и самой страшной правдой на всей Никольской улице.
Голоса Хитрова рынка
Извозчичья пролетка, нанятая у Сухаревой башни, с дребезгом и скрипом катилась вниз, к Трубной площади, и с каждым оборотом колес мир за ее окнами менялся. Улица, начинавшаяся у Мясницких ворот чинными купеческими особняками с вымытыми до блеска стеклами и начищенными медными ручками, постепенно ветшала, словно сбрасывая с себя слои приличий, как обносившуюся одежду. Фасады тускнели, лепнина осыпалась, обнажая красную кирпичную кладку, похожую на запекшуюся кровь. Воздух густел, наполняясь испарениями харчевен, едким дымом из сотен печных труб и тем неопределимым, кислым запахом бедности, который въедается в самые камни.
Аркадий Вольский сидел прямо, не прислоняясь к промерзшей коже сиденья, и смотрел на это превращение. Его пальцы в идеально сшитых перчатках были сжаты в кулаки, лежащие на коленях. Он чувствовал себя путешественником, пересекающим границу невидимого государства, со своими законами, языком и нравами. Государства, подданной которого была убитая Катерина Смирнова. Логика, на которую он привык опираться, как на незыблемый фундамент, подсказывала, что ответ на загадку ее смерти следует искать именно здесь, в той среде, что ее породила и поглотила. Но что-то внутри, некая интуитивная, почти суеверная часть его существа, которую он презирал и от которой всячески открещивался, шептала, что это не так. Белая лилия не могла родиться в этой грязи. Она была занесена сюда из иного мира, как экзотическая болезнь или божественное откровение.
– Дальше не поеду, ваше благородие, – прохрипел извозчик, натягивая вожжи. – Дальше Хитровской площади только на своих двоих. Лошадей жалко, да и себя тоже. Сдерут подковы вместе с копытами, не поморщатся.
Пролетка остановилась на углу, где смрадный переулок вливался в площадь, похожую на бурлящий котел. Вольский расплатился, накинув сверх условленного, и вышел.
Хитровка обрушилась на него разом, всеми своими звуками, запахами и видами. Это был не город, а гигантский, гноящийся организм. Воздух, густой, как студень, можно было резать ножом: в нем смешались вонь нечистот, текущих прямо по обледенелой брусчатке, сладковатый дух гниющей капусты, запах дешевой водки, пота сотен немытых тел и всепроникающая угольная гарь. Из распахнутых дверей трактиров и ночлежек валил пар, неслись обрывки пьяных песен, женский визг, площадная брань и глубокий, надсадный кашель – вечный аккомпанемент здешней жизни.
Люди, кишевшие на площади, казались не отдельными личностями, а единой серой, бесформенной массой. Оборванные, с опухшими, землистого цвета лицами и пустыми, выцветшими глазами, они текли мутным потоком, сталкиваясь, переругиваясь, что-то продавая и покупая. Дети с недетскими, серьезными лицами сновали под ногами, высматривая, что плохо лежит. Женщины, закутанные в рваные платки, предлагали себя прохожим глухими, безразличными голосами. В каждом темном углу, в каждой подворотне прятались тени, и из этих теней на Вольского смотрели десятки глаз – настороженных, оценивающих, враждебных.
Его фигура в дорогом пальто и бобровой шапке была здесь так же неуместна, как белая лилия в руке мертвой проститутки. Он чувствовал себя под микроскопом. Разговоры смолкали, когда он проходил мимо, взгляды провожали его, впиваясь в спину. Он был чужаком, представителем власти – силы, которую здесь ненавидели и боялись в равной мере. Он наткнулся не на стену молчания, а на нечто более плотное – на вязкую, топкую трясину страха и векового недоверия, которая поглощала любые вопросы и гасила всякое любопытство.
Первым делом он направился в ночлежку «Пересыльная», где, по сведениям околоточного, обитала Катенька. Это было длинное двухэтажное строение, вросшее в землю, с мутными, засиженными мухами окнами. Внутри царил полумрак и стоял такой тяжелый, спертый дух, что Вольскому на мгновение перехватило дыхание. Содержательница, дородная баба по имени Марья, с лицом, похожим на печеное яблоко, и маленькими, хитрыми глазками, встретила его без удивления, но с плохо скрываемой неприязнью.
– Следователь? – она вытерла руки о грязный передник. – Знамо дело. Как покойник, так сразу вы тут. А как живым помочь, так вас не дозовешься.
Она провела его в общую комнату, где на деревянных нарах, покрытых грязными тюфяками, сидели и лежали несколько женщин. При виде Вольского они замерли, потупив взоры, и комната погрузилась в звенящую тишину, нарушаемую лишь чьим-то свистящим дыханием.
– Катерину Смирнову знали? – начал Аркадий Петрович, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более нейтрально.
Марья пожала мясистыми плечами.
– А кто ж ее не знал. Тихая была. Смирная, как фамилия. Лишнего не болтала, в долг не брала. Аккуратная.
– Она с кем-нибудь дружила? Делилась чем-нибудь?
Вопрос повис в воздухе. Женщины на нарах словно окаменели. Марья поджала губы.
– Тут, ваше благородие, каждый сам за себя. Не до дружб. Выживаем.
– В последние дни, недели, она вела себя как-то необычно? Может, была чем-то взволнована? Или, наоборот, весела?
Марья на мгновение задумалась, ее маленькие глазки забегали. Вольский заметил эту мимолетную тень сомнения.
– Да как обычно, – буркнула она наконец. – Работала. Вечером уходила, утром приходила. Иногда не приходила. Дело такое.
– Куда она уходила работать? – надавил Вольский.
– А куда все. На улицу, – хозяйка обвела рукой комнату. – На Никольскую, на Тверскую. Где господа побогаче ходят.
Он попытался заговорить с другими обитательницами. Одна отвернулась к стене, накрывшись с головой рваным одеялом. Другая уставилась на него пустым, ничего не выражающим взглядом. Третья, совсем молоденькая девушка с огромными, испуганными глазами, лишь замотала головой и прошептала: «Ничего не знаю, барин, ничегошеньки не знаю».
Он ушел ни с чем. Он чувствовал себя так, словно пытался зачерпнуть воды решетом. Люди здесь не просто молчали – они активно, агрессивно не хотели ничего знать. Знание здесь было опасным грузом, который мог стоить жизни. Они боялись убийцу, кто бы он ни был. Но следователя они боялись ничуть не меньше.
Следующие несколько часов Вольский провел, погружаясь все глубже в это городское дно. Он заходил в трактиры, где пьяные в дым мастеровые и сомнительного вида личности играли в орлянку и пили мутную сивуху. Он опрашивал сутенеров, стоявших на углах, – наглых молодых людей с бегающими глазами и затаенной угрозой в каждом движении. Ответ был везде один и тот же: пожатие плечами, враждебный взгляд, бормотание себе под нос. Логика здесь не работала. Закон был чужим, непереводимым наречием. Власть его удостоверения испарялась в этих зловонных переулках, как капля воды на раскаленной плите.
Солнце, так и не сумев пробиться сквозь плотную пелену облаков, начало клониться к закату, окрашивая грязный снег в лиловые, болезненные тона. Холод усилился. Аркадий Петрович чувствовал, как усталость и безнадежность сковывают его тело. Он потер замерзшие руки, думая о том, что этот день был потрачен впустую. Нужно было менять тактику. Если закон и логика здесь бессильны, оставалось одно – деньги.
Он знал, что в этом мире есть люди, для которых информация – такой же товар, как краденая лошадь или бутылка водки. Филеры, доносчики, осведомители – они были связующим звеном между миром порядка и миром хаоса. У Вольского был на примете один такой человек, доставшийся ему «в наследство» от предыдущего следователя. Старый, опытный сыщик, уходя в отставку, дал Аркадию совет: «Будешь в полной… западне, ищи Филина в кабаке „Каторга“. Он гнида, но гнида зрячая. Только помни: он чует страх и слабость. И никогда не плати ему вперед».
Трактир «Каторга» оправдывал свое название. Он располагался в глубоком подвале, куда вела скользкая, щербатая лестница. Внутри было темно, дымно и шумно. С низкого, закопченного потолка свисали керосиновые лампы, отбрасывая на лица посетителей дрожащие, причудливые тени. Вольский прошел к дальнему углу, стараясь не встречаться взглядом с сидевшими за столами. Он сел за единственный свободный столик, липкий от пролитого пива, и заказал стакан чаю. Трактирщик, одноглазый гигант с перебитым носом, молча поставил перед ним мутный стакан и удалился.
Аркадий ждал. Он не оглядывался, не выказывал нетерпения. Он просто сидел, медленно потягивая обжигающую жидкость, и слушал гул голосов, сливавшийся в единый, неразборчивый рев. Он знал, что его уже заметили. Теперь оставалось только ждать, кто подойдет первым.
Прошло около получаса, прежде чем тень отделилась от стены у него за спиной.
– Погодка нынче, ваше благородие… собачья, – раздался над ухом тихий, сиплый голос.
Вольский не обернулся. Он поставил стакан.
– Теплее не станет.
– Это как поглядеть, – проскрипел голос. – Иной раз и от денежки бумажной в кармане потеплеть может.
Человек обошел стол и сел напротив. Это был Филин. Свое прозвище он получил, вероятно, за огромные, круглые, никогда не моргающие глаза на худом, похожем на птичью голову, лице. Он был щупл, одет в какое-то невообразимое тряпье, и от него исходил резкий запах махорки и немытого тела. Он сидел, втянув голову в плечи, и его пальцы с длинными, грязными ногтями нервно барабанили по столу.
– Что угодно господину следователю в наших палестинах? – спросил он, не сводя с Аркадия своих гипнотических глаз. – Не иначе, как душа человеческая пропала.
– Хуже, – ровно ответил Вольский. – Нашлась. На Никольской, сегодня утром. Девица Катерина Смирнова.
Филин прищурился. Его пальцы замерли.
– Слыхал. Говорят, диковинку при ней нашли. Цветочек. Не по сезону.
– Мне нужны не слухи, а факты, – Вольский положил на стол руку. – С кем она зналась в последнее время? Кто крутился возле нее? Были ли у нее враги? Или, наоборот, друзья?
Филин издал тихий, клекочущий смешок.
– Враги? Ваше благородие, тут у каждого второй – враг. А друзья… Друг тут один – рубль серебром. А у Катьки их не водилось.
– Но что-то же было, – Вольский смотрел прямо в немигающие глаза напротив. – Что-то изменилось. Ее убили не за медяк, который она заработала за ночь.
Филин молчал, облизывая пересохшие губы. Его взгляд скользнул к руке Вольского, затем снова на его лицо. Шла безмолвная торговля. Аркадий медленно, не отрывая взгляда, вынул из внутреннего кармана бумажник. Достал две кредитки по пять рублей – целое состояние для здешних мест – и положил на стол, прикрыв ладонью.
Глаза Филина жадно блеснули.
– Говорят, – начал он вкрадчивым шепотом, наклонившись через стол так, что Вольский почувствовал его гнилое дыхание, – говорят, девка в последнюю неделю сама не своя была. Раньше тихая, как мышь, а тут вдруг нос задрала. Девкам своим хвасталась.
– Чем хвасталась? – спросил Вольский, чувствуя, как внутри разгорается огонек интереса.
– А тем, что жизнь ее скоро переменится. Что бросит она это ремесло поганое. Что есть у нее теперь… покровитель.
Слово «покровитель» Филин произнес с особой, едкой интонацией.
– Что за покровитель? Имя? Приметы?
Филин покачал головой.
– Имени она не называла. Боялась, видать, сглазить. Только намекала. Говорила, не из наших он. Не купец, не мастеровой. Господин. Из благородных. Шибко важный и богатый. Подарки, говорила, дарит. И обещал скоро ее отсюда забрать. В люди вывести.
Вольский замер. Вот оно. Ниточка. Тонкая, почти невидимая, но ведущая наверх, из этой клоаки. Белая лилия. Покровитель из благородных. Части головоломки начинали складываться, образуя пока еще смутный, но уже пугающий узор.
– Кто еще это слышал? Кто может подтвердить?
– Никто, ваше благородие, – Филин криво усмехнулся. – Никто ничего не слышал и не видел. Языки у всех на замке. Покойница – она ведь уже не заплатит. А живые еще пожить хотят.
Он протянул свою когтистую лапу к деньгам. Вольский убрал руку.
– Это все?
– Все, что знаю. Чистая правда, – просипел Филин, не отрывая взгляда от кредиток. – А больше никто и не скажет. Боятся. Этот, кто Катьку убрал, он не простой душегуб. Он артист. А с такими лучше дела не иметь.
Вольский медленно подвинул деньги к нему. Филин сцапал их с молниеносной быстротой и спрятал в неведомых глубинах своего тряпья. Он поднялся, все так же не сводя с Аркадия своих совиных глаз.
– Берегите себя, ваше благородие, – прошептал он. – В нашем тумане не только кошельки пропадают.
И он растворился в полумраке трактира так же беззвучно, как и появился.
Аркадий Петрович еще несколько минут сидел неподвижно. В ушах звенело от шума, в горле першило от табачного дыма. Он получил то, за чем пришел. Зацепку. Она была эфемерной, как дым, основанной на хвастливых словах убитой девушки и проданной за десять рублей информацией от человека, которому нельзя было верить ни на грош. Но это было больше, чем ничего. Это был вектор, направление. Расследование уводило его с грязных улиц Хитровки в совершенно иной мир – в мир великосветских салонов, дорогих ресторанов и роскошных особняков. В мир, где грехи были те же, но облечены в шелк и бархат, а цена человеческой жизни была порой еще ниже, чем здесь.
Он поднялся и пошел к выходу. Никто не смотрел ему вслед. Он снова был лишь тенью, покинувшей их мир. Выбравшись из подвала на морозный воздух, он глубоко вздохнул, пытаясь очистить легкие от кабацкой вони. Небо над Москвой было низким, тяжелым, беззвездным. Туман снова сгущался, готовясь поглотить город. Вольский поежился, но не от холода. Он думал о неизвестном «благородном» покровителе, который дарил падшей женщине дорогие подарки и несбыточные надежды. И о том, каким же страшным оказался его последний дар – неестественно белая, нетронутая морозом лилия.
Шепот в редакции 'Московского листка'
Утро встретило Аркадия Вольского тяжелой, свинцовой головной болью, не имевшей ничего общего с вином или бессонницей. Это была усталость иного рода, въевшаяся в самые кости, – усталость от соприкосновения с изнанкой мира. Он сидел за своим казенным столом в Судебных установлениях, и ровные ряды томов Свода законов на полках казались ему насмешкой. В этих толстых книгах были расписаны все возможные преступления и наказания, каждая процедура была выверена до последней запятой, но ни в одном из параграфов не было сказано, что делать следователю, когда в его упорядоченную вселенную вторгается белая лилия.
Он пытался систематизировать то немногое, что имел: труп, удушение, цветок. И рассказ Филина о таинственном «благородном» покровителе. Ниточка была слишком тонкой, почти призрачной. Она вела из хитровской грязи наверх, в мир, который был для Вольского так же чужд и непонятен, как и трущобы, – мир великосветских гостиных и негласных привилегий. Он мог допросить сотню обитателей ночлежки, но как допросить «благородное общество»? Оно было защищено невидимой стеной этикета, связей и круговой поруки, пробить которую было сложнее, чем каменные стены Бутырской тюрьмы.
Дверь в кабинет скрипнула, и на пороге возник запыхавшийся письмоводитель, юноша с вечно испуганными глазами. Он положил на стол свежий, еще пахнущий типографской краской номер «Московского листка».
– Вот, Аркадий Петрович… Просили доставлять вам с самого утра, – пролепетал он и, не дожидаясь ответа, ретировался.