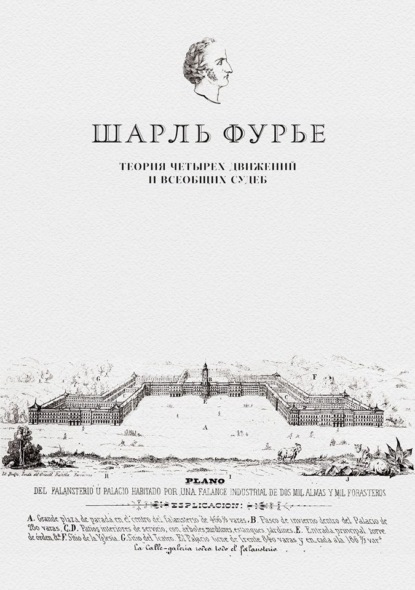Убийства на Никольской улице

- -
- 100%
- +
Вольский молчал. Он понимал, что спорить бесполезно. Лыков не хотел слышать правду. Он хотел получить решение. Простое, быстрое, удобное. Козла отпущения, которого можно будет бросить на растерзание прессе и начальству. Его отеческая ирония, с которой он всегда относился к Аркадию, испарилась, уступив место жесткому, неприкрытому приказу.
– Поймите меня правильно, Аркадий, – тон Лыкова снова стал мягче, усталее. Он подобрал сигару и долго пытался ее раскурить дрожащими руками. – Я в вас верю. У вас светлая голова. Но вы идеалист. Вы думаете, что закон – это скальпель. А это, голубчик, чаще всего топор. Им нужно рубить узлы, а не развязывать их. Нам не нужна сложная, многолетняя история о таинственном мстителе. Нам нужно закрытое дело. И спокойствие в городе. Его сиятельство князь Долгоруков очень ценит спокойствие.
Он поднялся, давая понять, что разговор окончен.
– У вас неделя. Семь дней, Аркадий Петрович. Чтобы на моем столе лежал рапорт с фамилией обвиняемого. Иначе я буду вынужден передать дело в Охранное отделение. А уж как они работают, вы, я думаю, наслышаны. Там не допрашивают. Там выбивают. И им все равно, чьи кости ломать – виновного или первого попавшегося. Идите. И подумайте над моими словами.
Вольский вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой тяжелую дубовую дверь. В коридоре было тихо и пусто. Он чувствовал себя так, словно его ударили. Не физически, а как-то иначе, глубже. Его вера в систему, в незыблемость закона, в общую цель, которую они преследовали, – вся эта конструкция, такая стройная в его голове, дала первую, глубокую трещину. Он был один. Один против убийцы, который был умнее и изощреннее любого преступника, с которым он сталкивался. И один против системы, которая требовала от него не истины, а имитации.
Он вернулся в свой холодный, неуютный кабинет. Листок, оставленный Софьей Клюевой, все так же лежал на столе. Теперь он смотрел на него другими глазами. Это было не просто журналистское расследование. Это был единственный луч света в том тумане лжи, страха и компромиссов, который сгущался вокруг него. Он понял, что Лыков был прав в одном: ему придется рубить. Но не тот узел, на который ему указали. А совсем другой. Тот, что связывал эти разрозненные смерти в единый, чудовищный узор. И он знал, что топор для этой работы ему придется выковать самому.
Проповедник с Амвона
Приказ статского советника Лыкова лег на стол Вольского незримой, но удушающей тяжестью. Это был не совет, не рекомендация – это была петля, наброшенная на шею следствия, и Фёдор Иванович мягкой, отеческой рукой предлагал Аркадию самому затянуть узел. Подозреваемый был подан ему на блюде, как горячее к обеду: удобно, быстро и, что самое главное, удобоваримо для начальства. Отец Серафим.
Краткая справка, составленная небрежным почерком околоточного надзирателя, была столь же выразительна, сколь и бесполезна. «Серафим, прозванием Неведомый, происхождения мещанского, лет около пятидесяти. Родителей и постоянного места жительства не имеет. Кормится подаянием. Регулярно устраивает публичные проповеди у стен Китай-города, в коих изрекает хулу на власти и предрекает городу гибель огненную за грехи его. Неоднократно задерживался за нарушение общественного порядка, но по причине явного помешательства ума отпускался без последствий». В конце была приписка, сделанная другим, более аккуратным почерком, вероятно, помощника Лыкова: «Обратить особое внимание на риторику касательно „блудниц“ и „очищения“».
Вольский отодвинул листок. Он чувствовал себя аптекарем, которому велели приготовить лекарство от смертельной болезни, выдав вместо колб и реторт глиняный горшок и пучок подорожника. Все его существо, весь его аналитический, выверенный до мелочей склад ума восставал против этой версии. Убийца, оставлявший на месте преступления идеальные лилии, был художником зла, перфекционистом смерти. Его действия были выверены, точны, лишены суеты. Мог ли такой человек быть оборванным, безумным кликушей, кричащим на рыночной площади? Логика говорила – нет. Но приказ Лыкова требовал – да. И Аркадий Петрович, скрипнув зубами, подчинился. Не приказу – необходимости. Он должен был пройти по этому ложному следу до самого конца, чтобы с неопровержимой ясностью доказать его ложность.
Он нашел его там, где и было указано, – у Варварских ворот Китай-города. Зима превратила это место в подобие театральной декорации для какой-то мрачной мистерии. Древняя, потемневшая от веков кирпичная стена, покрытая пятнами лишайника и шапками грязного снега, служила задником. Сценой был небольшой пятачок утоптанной земли, с которого счистили снег. А зрительным залом – полукольцо людей, сбившихся в плотную, дышащую паром толпу. Это были не праздные зеваки. Вольский разглядел их лица: торговки с обветренными щеками, мастеровые с въевшейся в кожу сажей, нищие старухи в рванье, несколько потерянных, ищущих чуда мещанских жен. И над всеми ними, стоя на перевернутом деревянном ящике, словно на импровизированном амвоне, возвышался он.
Отец Серафим был страшен. Не уродством, а какой-то запредельной, нечеловеческой иссушенностью. Высокий, костлявый, он, казалось, состоял лишь из жил и пергаментной кожи, туго обтягивавшей острые углы костей. Длинные, спутанные седые волосы и такая же борода, похожая на клочья старой пакли, сливались с серым небом. Но все это – и рваная ряса, и босые, посиневшие от холода ноги на мерзлом ящике – меркло перед его глазами. Они горели. Не метафорически, а почти буквально. Глубоко посаженные, они светились из темных орбит лихорадочным, фанатичным огнем, который, казалось, пожирал изнутри его иссохшую плоть.
И он говорил. Его голос, поначалу тихий и скрипучий, как несмазанная телега, набирал силу, креп, наполнялся металлом и громом. Он не просто проповедовал – он творил заклинание, вплетая в него слушателей, город, самое небо.
– И я зрю! – гремел он, простирая в морозный воздух руку с длинными, похожими на птичьи когти пальцами. – Зрю, как ползет по тебе, Москва, змея аспидова! И имя ей – Порок! Она свила гнездо в палатах твоих золоченых, и шипит из подворотен твоих смердящих! Она обвила шеи мужей твоих честных, и жалит в сердца жен твоих верных! Но слаще всего ей – кровь нечистая! Кровь дщерей твоих заблудших, что торгуют телом своим на торжищах твоих, как скотом!
Толпа замерла, вслушиваясь. Дыхание сотен людей сливалось в единое облако пара, окутывавшее проповедника, словно фимиам.
– Вы глядите на них! Вы проходите мимо них, отводя глаза! Вы бросаете им медяк, покупая их грех и делая его своим! А Господь зрит! И гнев Его копится, как вода за плотиной! Ибо сказано: „Не оскверняй земли, на которой вы живете, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровию пролившего ее“!
Вольский почувствовал, как по спине пробежал холодок, не имевший отношения к морозу. Слова, вырванные из ветхозаветного контекста, в устах этого безумца обретали новый, зловещий смысл. Очищение кровью. Это было не просто совпадение. Это была почти дословная формулировка той идеи, которую он сам, следователь Вольский, нащупывал в действиях убийцы. Он подошел ближе, встал за спинами каких-то баб в платках, стараясь не привлекать внимания, но его слух и зрение обострились до предела.
– Но где же палачи Господни? – продолжал вещать Серафим, и его голос дрогнул от исступления. – Где левиты с мечами наголо, что очистят стан от скверны? Судьи ваши слепы, стражники ваши продажны! Закон ваш – паутина, что ловит малую мошку, но пропускает большого шмеля! И тогда… – он понизил голос до страшного, интимного шепота, и толпа подалась вперед, чтобы не пропустить ни слова, – тогда Господь посылает ангела своего! Ангела с мечом огненным! Он приходит ночью, в тишине, когда город спит в своем блуде! Он не судит – он исполняет! Он не спрашивает – он карает! И каждому деянию своему он оставляет знак! Знак чистоты небесной посреди грязи земной! Как цветок лилии, что прорастает из болотной топи, незапятнанный, белый, как риза агнца!
Вольский замер. Он почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Этого не могло быть. Это было слишком точно. Слишком детально. Лилия. Он не мог узнать о ней из газеты Клюевой – второй жертвы еще не было, когда она писала свою заметку. А о втором убийстве в газетах еще не успели сообщить. Значит, он либо знал… либо… он и был тем самым «ангелом».
Он смотрел на проповедника и видел перед собой идеального подозреваемого. Мотив – религиозный фанатизм. Идеология – очищение города от порока. Знание деталей, недоступных никому, кроме следствия и убийцы. Все сходилось. Лыков был прав. Решение было простым, как удар топора. Слишком простым. И эта простота вызывала у Вольского почти физическое отторжение. Его разум, привыкший к сложным многоходовым построениям, отказывался принимать эту театральную, почти карикатурную разгадку.
Проповедь закончилась так же внезапно, как и началась. Серафим умолк, закатил глаза, и его тело обмякло. Он рухнул с ящика на утоптанную землю, как пустой мешок. Две старухи-прислужницы подхватили его под руки и поволокли в сторону ближайшей подворотни. Толпа, лишившись своего оракула, мгновение постояла в оцепенении, а затем начала медленно рассасываться, унося с собой тревожное эхо услышанных слов.
– Взять его, – негромко приказал Вольский двум городовым в штатском, которых он предусмотрительно привел с собой. – Тихо, без шума. Доставить в ближайшую управу. Я буду следом.
Интерьер допросной комнаты в Сретенской полицейской части был квинтэссенцией казенной безнадежности. Стены, выкрашенные много лет назад в тошнотворный желто-зеленый цвет, были испещрены царапинами и неразборчивыми надписями. Единственное, зарешеченное окно выходило на глухую стену соседнего дома. В воздухе стоял несмываемый запах карболки, дешевой махорки и человеческого страха. Посреди комнаты – грубо сколоченный стол и два стула. На одном, спиной к двери, сидел Серафим. На другом, напротив, расположился Вольский.
Проповедник изменился. Исступление покинуло его, оставив после себя лишь крайнюю, смертельную усталость. Он сидел ссутулившись, уронив худые руки на колени, и его горящие глаза теперь подернулись пепельной пленкой безразличия. Он казался не пророком, а сломленным, больным стариком.
Вольский начал допрос, как всегда, издалека. Имя, возраст, род занятий. Серафим отвечал односложно, глухим, бесцветным голосом. Да, помнит. Нет, не знает. Все в руках Божьих. Он не выказывал ни страха, ни возмущения. Лишь полное, всеобъемлющее равнодушие.
– Отец Серафим, – Вольский подался вперед, положив руки на стол. – Сегодня в своей проповеди вы упомянули цветок лилии. Откуда вам известно об этой детали?
Проповедник медленно поднял на него глаза. На мгновение в их глубине блеснул прежний огонь.
– Господь открывает своим избранным то, что сокрыто от глаз мирских. Я зрю не глазами, следователь, но духом.
– Оставим дух, – тон Вольского стал жестче. – Факт в том, что о лилии при второй жертве не знал никто, кроме убийцы и нескольких чинов полиции. Газеты еще не успели об этом написать. Как вы узнали? Вы были там?
Серафим молчал. Его губы шевелились, беззвучно повторяя слова молитвы.
– Где вы были прошлой ночью, отец Серафим? – продолжил Вольский, методично забивая гвозди своих вопросов. – И три ночи назад, когда была убита первая женщина, Катерина Смирнова?
– Я молился, – тихо ответил старик. – Я всегда молюсь. Ночь – время для молитвы, ибо днем мир слишком шумен, и глас Божий тонет в его суете.
– Где именно вы молились? Есть ли люди, которые могут это подтвердить?
– Моя паства. Они приходят и уходят. Кто-то остается на час, кто-то на всю ночь. Мы молимся вместе в заброшенном флигеле у Покровских ворот.
– Имена. Мне нужны имена тех, кто был с вами в эти две ночи.
– Я не знаю их мирских имен, – Серафим покачал головой. – Для меня они все – дети Божьи. Души, ищущие спасения.
Вольский вздохнул. Это было похоже на попытку удержать в руках дым. Каждое прямое обвинение тонуло в болоте религиозного мистицизма. Он решил зайти с другой стороны.
– Вы говорите об очищении города от блудниц. Вы считаете, что они заслуживают смерти?
– Всякий грешник заслуживает смерти, ибо плата за грех – смерть, – без всякого выражения ответил Серафим. – Но не мне судить. Я лишь глас вопиющего в пустыне. Я призываю к покаянию, а не к убийству. Кара – в руках Господа.
– А тот «ангел с мечом огненным», о котором вы вещали толпе? Это не орудие Господа?
На лице проповедника впервые отразилось нечто похожее на живую эмоцию. Удивление.
– Ангел? – он склонил голову набок, словно прислушиваясь к чему-то. – Я говорил об ангеле? Возможно. Слова приходят ко мне свыше. Я лишь проводник. Я не помню всего, что говорю, когда на меня сходит Дух.
Вольский смотрел на него, и ледяное здание его подозрений начало крошиться, осыпаться мелкими, неприятными осколками сомнений. Безумие этого человека было не показным. Оно было тотальным, всепоглощающим. Он жил в своем собственном мире, населенном ангелами, демонами и говорящим с ним Богом. Мог ли такой человек спланировать и осуществить два хладнокровных, безупречно исполненных убийства? Мог ли он ночами выслеживать жертв, душить их, а затем аккуратно вкладывать им в руки свежие, дорогие цветы, купленные, вероятно, в лучшей оранжерее Москвы? Это требовало не только фанатизма, но и трезвого расчета, хитрости, умения ориентироваться в реальном, а не в вымышленном мире.
– Вы ненавидите этих женщин? – спросил Вольский тихо, почти вкрадчиво.
Серафим посмотрел на него долгим, пронзительным взглядом. В его глазах не было ненависти. Была лишь бездонная, выгоревшая печаль.
– Я не ненавижу их, следователь. Я жалею их. Как жалею и вас. Вы все – слепые котята, барахтающиеся во тьме. Вы ищете убийцу тел. А нужно искать убийцу душ. Он повсюду. И имя ему – Легион.
Он отвернулся и снова уставился на грязную стену. Вольский понял, что допрос окончен. Он не добился ни признания, ни внятного алиби. Он получил лишь еще больше вопросов. Этот человек был либо невероятно хитрым актером, либо истинным безумцем, чьи пророчества странным, пугающим образом совпали с реальностью.
Аркадий Петрович поднялся и вышел из комнаты, оставив Серафима наедине с его Богом или его демонами. В коридоре его ждал один из городовых.
– Ну что, ваше благородие? Раскололся?
– Установите за ним наблюдение, – распорядился Вольский, не отвечая на вопрос. – Проверьте его «паству». Найдите этот флигель у Покровских ворот. Допросите всех, кто там бывает. Мне нужно знать, где он был в ночи убийств, поминутно. Но самого пока не отпускать.
Он покинул полицейскую управу и вышел на улицу. Уже смеркалось. Город зажигал первые газовые фонари, и их неверный, дрожащий свет выхватывал из сгущающегося тумана случайные лица прохожих, фасады домов, пролетающие пролетки. Город жил своей обычной, суетливой жизнью, не подозревая о драмах, что разыгрывались в его казенных стенах.
Вольский шел, не разбирая дороги, погруженный в свои мысли. Он выполнил приказ Лыкова. У него был главный подозреваемый. Человек, чьи речи были прямым призывом к насилию, чьи слова пугающе совпадали с почерком убийцы. Любой другой на его месте уже готовил бы обвинительное заключение. Но Аркадий чувствовал лишь горечь и неудовлетворенность. Это было не то. Ответ был слишком очевидным, слишком громким, слишком публичным. А настоящий убийца, он был уверен в этом, был тихим. Он действовал во мраке, а не на площади. Его безумие было иного рода – холодным, расчетливым, аристократичным.
Он остановился на углу и поднял воротник пальто. Туман, густой и влажный, окутывал его, проникал под одежду, холодил кожу. И в этом тумане ему вдруг ясно представилась альтернативная картина. Не безумный пророк, а кто-то совсем другой. Кто-то, кто слышал эти проповеди. Кто-то, кто мог взять на вооружение эту чудовищную идеологию «очищения», используя ее как ширму, как оправдание для своих собственных, куда более личных и темных мотивов. Что, если Серафим был не убийцей, а невольным вдохновителем? Что, если настоящий хищник просто позаимствовал у безумца его страшные слова, как вор заимствует чужую одежду, чтобы скрыть свое истинное лицо?
Эта мысль была неуютной, она уводила его от простого решения обратно, в лабиринт сложных догадок. Но она казалась ему единственно верной. Он не поймал зверя. Он наткнулся лишь на чучело, выставленное на всеобщее обозрение. А сам зверь, умный, терпеливый и безжалостный, все еще был там, в тумане, наблюдал, выжидал и, возможно, уже выбирал свой следующий цветок.
Танцы в особняке Орловских
Приглашение, отпечатанное на плотной, пахнущей вербеной бумаге, лежало в его руке чужеродным предметом, словно подброшенная улитка в часовом механизме. Оно было пропуском в мир, который Аркадий Вольский презирал с той отстраненной, теоретической брезгливостью, с какой врач-анатом презирает болезнь, изучая ее под микроскопом. Он застегнул последнюю пуговицу на строгом черном сюртуке, который казался ему до смешного неуместным, почти траурным нарядом для предстоящего праздника жизни, и поправил галстук, тугой и холодный, как петля висельника.
– Ну что, Аркадий Петрович, готовы к погружению? – голос Софьи Клюевой, звонкий и полный насмешки, ворвался в его сосредоточенное уныние.
Она стояла в дверях его съемной квартиры, и ее вид был столь же вызывающе неуместен в его аскетичной обстановке, как и ее присутствие. На ней было платье из темно-синего шелка, которое при свете керосиновой лампы казалось почти черным, но при каждом движении вспыхивало глубокими, таинственными искрами. Открытые плечи и шея, на которой тонкой нитью дрожал мелкий жемчуг, казались беззащитными и в то же время дерзкими. В ее облике не было ничего от той деловитой, вечно спешащей «газетчицы» в строгом жакете. Сегодня она играла другую роль.
– Это маскарад, Софья Андреевна, – глухо ответил он, беря с комода перчатки. – И я чувствую себя ряженым.
– Вся Москва – маскарад, – она легко пожала плечами. – Вы просто впервые идете на бал, где маски не снимают даже под утро. Моя роль – ваша дальняя кузина из провинции, очарованная столичным блеском. А ваша… ваша роль – быть молчаливым, угрюмым спутником, который тяготится обществом и мечтает вернуться к своим книгам. Играть почти не придется. Естественность – залог успеха.
Ее ирония не столько задевала, сколько трезвонила о неприятной правде. Он действительно был угрюм. Мысли о деле не отпускали его, они роились в голове, как потревоженные пчелы. Задержание отца Серафима не принесло облегчения, лишь усилило ощущение фальши. Он был уверен, что безумный проповедник – лишь громоотвод, призванный отвести удар от истинной грозовой тучи. А туча эта, судя по всему, собиралась над самыми блестящими крышами Москвы. Князь Петр Сергеевич Орловский. Имя, которое Филин не назвал, но которое всплыло само собой, когда Софья, используя свои тайные каналы, навела справки о последних «покровителях» Катерины Смирновой. Меценат, эстет, женолюбец, устроитель самых скандальных вечеров, человек, чье богатство было столь же велико, сколь и сомнительна его репутация. И, что самое важное, – завсегдатай Никольской, ее рестораций и гостиниц, известный своей страстью к «простонародной экзотике».
Пролетка, нанятая Софьей, была под стать ее платью – с бархатными сиденьями и рессорным ходом, почти не замечавшим выбоин на мерзлой мостовой. Они ехали молча. Город за окнами тонул в синих зимних сумерках. Газовые фонари уже зажглись, их свет вырывал из темноты фрагменты реальности: лицо прохожего, блеск витрины, пар из ноздрей лошади. Вольский смотрел на эти обрывочные картины и думал о том, что его расследование – такая же попытка сложить целое из разрозненных, случайно освещенных кусков мрака.
Особняк князя Орловского на Пречистенке был не просто домом – он был вызовом. Он сиял. Десятки окон на двух этажах горели теплым, золотым светом, который заливал улицу, превращая грязный снег в парчу, а голые ветви деревьев – в причудливую вязь черного кружева. У подъезда стояла вереница карет и пролеток. Из них выпархивали дамы, шурша шелками и сверкая драгоценностями, и выходили господа во фраках, окутанные облаками морозного пара и дорогих сигар. Из-за тяжелой дубовой двери доносились приглушенные звуки музыки и многоголосый гул, похожий на жужжание гигантского, раззолоченного улья.
Аркадий чувствовал, как его внутренняя собранность, его привычка к порядку и тишине, начинает крошиться под этим напором света и звука. Он был солдатом, привыкшим к окопной грязи, которого вдруг вытолкнули на паркет бального зала.
– Не робейте, кузен, – шепнула Софья, беря его под руку. Ее ладонь в тонкой перчатке была легкой, но настойчивой. – Главное – держитесь так, словно вам все это смертельно надоело. Высокомерие – лучшая маскировка для страха.
Они вошли. И мир снаружи перестал существовать. Тепло было почти физически ощутимым, густым, пропитанным ароматами воска, хвои от гигантской ели в углу, сотен духов и едва уловимым, будоражащим запахом шампанского. Мраморная лестница, устланная красным ковром, уводила наверх, в залу, откуда лились звуки вальса. Сотни свечей в хрустальных люстрах дрожали, множились, отражались в зеркалах, в стеклах бокалов, в блестящих глазах гостей, создавая ощущение ирреального, вибрирующего пространства.
Вольский стоял на верхней ступеньке лестницы, и его аналитический ум лихорадочно, почти панически пытался разложить эту картину на составляющие. Шелк, бархат, бриллианты, жемчуг. Белые мундиры кавалергардов, черные фраки статских советников. Пудра на лицах дам, скрывающая морщины, помада, скрывающая усталость, веера, скрывающие усмешки. Это был не сбор людей, а выставка масок. И каждая маска была произведением искусства, за которым скрывалась либо пустота, либо нечто, что не принято было показывать при свечах. Он искал в этих холеных, смеющихся лицах тень того безумия, что оставляло на снегу мертвых девушек с цветами в руках, и не находил. Зло здесь, если оно и было, носило фрак и пахло французским парфюмом.
– Вон он, наш голубчик, – прошептала Софья, едва заметно кивнув в сторону камина, у которого образовался небольшой кружок. – В центре. Как паук в центре паутины.
Князь Петр Сергеевич Орловский не был красив. В его лице не было ни одной правильной черты. Но оно приковывало взгляд. Холеное, с высоким лбом, обрамленным тронутыми ранней сединой волосами, и тяжелыми, чуть припухшими веками, из-под которых смотрели удивительно светлые, почти прозрачные глаза. Взгляд этих глаз был утомленным, пресыщенным, и в то же время в его глубине таилось нечто хищное, наблюдающее. Он держал в тонких, аристократических пальцах бокал с вином, но не пил, а лишь покачивал его, следя за игрой света в рубиновой жидкости. Он слушал говорившего с ним пожилого генерала, но Вольский был уверен – князь видит и слышит все, что происходит в зале. Он был не просто хозяином этого дома. Он был режиссером этого спектакля.
– Пойдемте, представлю вас, – Софья потянула Аркадия за рукав.
– Как? – удивился он. – Вы с ним знакомы?
– Я брала у него интервью для столичной газеты о его коллекции фламандской живописи. Он был очарователен, много цитировал Бодлера и пытался поцеловать мне руку чуть выше запястья. Он падок на все новое и блестящее. Новая журналистка, новая картина, новая… – она осеклась. – Пойдемте.
Она провела его сквозь толпу с той уверенной грацией, которая была ему совершенно не свойственна. Она кивала знакомым, улыбалась, бросала на ходу какие-то светские любезности, и все это было так естественно, что Аркадий почувствовал себя грубым, неотесанным придатком к ее блеску.
Когда они подошли, князь как раз закончил разговор с генералом и обернулся. Его светлые глаза на мгновение задержались на Софье, и в них промелькнуло узнавание и ленивый интерес.
– Мадемуазель Клюева, – его голос был низким, с легкой хрипотцой, бархатным, но с вплетенной в него стальной нитью. – Какое приятное нашествие. Я полагал, вы презираете подобные сборища праздных душ. Вы же, если мне не изменяет память, ищете правду, а она редко бывает гостьей на балах.
– Иногда она прячется в самых неожиданных местах, князь, – парировала Софья, не опуская глаз. – Позвольте представить вам моего кузена, Аркадия Петровича Вольского. Он недавно в Москве, приехал из глуши по делам наследства.
Орловский перевел свой пронзительный взгляд на Вольского. Это было похоже на то, как энтомолог рассматривает новый, неизвестный ему экземпляр жука. Он скользнул взглядом по его строгому сюртуку, по лишенному светской любезности лицу, по плотно сжатым губам.
– Вольский, – он чуть склонил голову набок. – Что-то знакомое. Вы не родственник профессора права из университета? Петра Ильича?