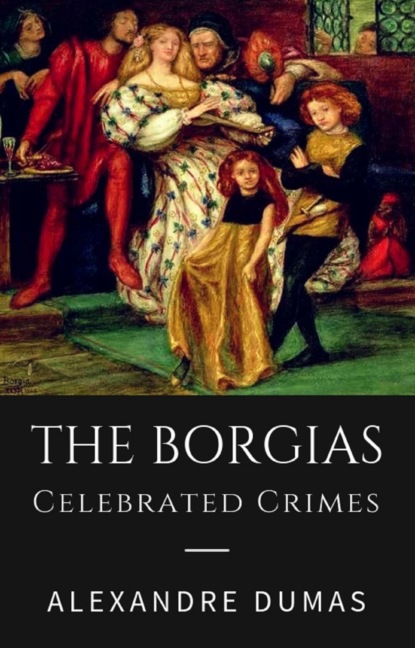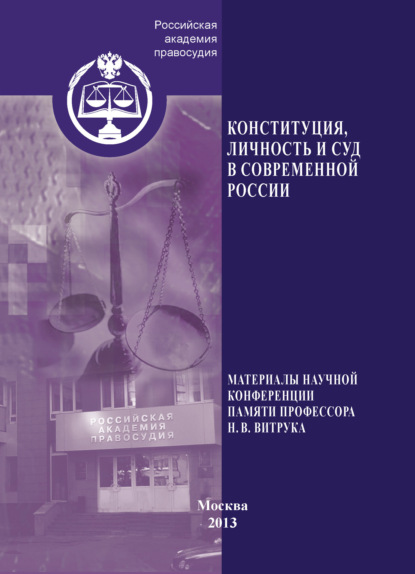Хранители Севера

- -
- 100%
- +
– Ты дрожишь, – прошептал он, и его голос звучал непривычно хрипло, глухо от страсти.
Девушка закрыла глаза, теряя опору. Внутри всё переворачивалось и плавилось – живот сжало от странного, сладкого спазма, по всему телу разливалась тяжёлая, густая волна тепла. Когда его губы снова нашли её рот, поцелуй уже не был нежным. Он был властным, требовательным, полным немого вопроса, и она ответила ему с неожиданной для самой себя яростной страстью. Неожиданный, глухой стон вырвался у неё из груди, заставив её щёки вспыхнуть ещё сильнее. Адриан притянул её ближе, его руки крепко, почти болезненно обхватили её талию сквозь тонкую ткань рубашки. В этот миг казалось, что кроме них двоих, сплетённых воедино в этом танце, в мире больше ничего не существует. Но вдруг её ладони, ещё секунду назад цеплявшиеся за него, упёрлись в его грудь, создавая небольшую, но ощутимую дистанцию.
– Мы не можем… – выдохнула она, но её руки, вопреки собственным словам, всё ещё цепко держались за его плечи, не желая отпускать.
Каждый вдох давался ей с трудом, словно грудь сдавили тугими железными обручами. Сердце колотилось так громко, что, казалось, его стук слышно через всю комнату – ровные, сильные удары отдавались в висках, пульсировали в кончиках пальцев. Внутри всё горело. Жар растекался по телу, то поднимаясь пылающим румянцем к щекам, то опускаясь вниз живота, где рождалось странное, почти болезненное, но сладкое напряжение. Его руки на её талии казались одновременно и пыткой, и единственным спасением. «Останься…» – отчаянно шептал внутренний голос, но тут же холодный разум вступал в яростный бой: «Ты не можешь себе этого позволить! Опомнись!»
Паника накатила внезапно, ледяной волной. Губы ещё помнили вкус его поцелуев, кожа – жар его прикосновений, но мысли уже метались, как перепуганные птицы.
«Что я творю?.. Что я сейчас делаю?..»
Её пальцы с новой силой вцепились в его рубашку, безжалостно сминая ткань. К горлу подкатил тугой, болезненный ком. В глазах застыли непролитые слёзы, делая взгляд стеклянным. Всё её существо рвалось к нему – к этому обманчивому теплу, к этой мнимой безопасности, к этим тёмным глазам, в которых она вдруг, с ужасом, увидела то, чего так боялась признать даже перед собой. Хотелось забыть. Забыть кто она. Забыть корону, долг, чужие ожидания. Просто быть женщиной – желанной, слабой, живой.
Но…
Она закрыла глаза, чувствуя, как предательски горячие слёзы подступают к векам. В горле стоял ком, мешающий дышать. Каждая клеточка тела кричала, чтобы она осталась, просто позволила себе быть счастливой, хотя бы на это одно, украденное у судьбы мгновение. Но за её спиной, в холодной реальности, маячили неотвязные тени тех, кто зависел от её решений, чьи жизни и судьбы были намертво вплетены в её собственную.
«Это неправильно», – прошептала она мысленно, и даже эти не озвученные слова обожгли губы.
Борьба внутри становилась невыносимо мучительной. Её руки, казалось, жили своей собственной жизнью, они сами тянулись к нему, пальцы впивались в ткань его рубашки, не желая отпускать. Кожа под её ладонями была горячей, живой, а сердце под ней билось так же часто и отчаянно, как её собственное. Они стояли так близко, что каждый его короткий выдох обжигал её лицо, а знакомый, терпкий запах его кожи кружил голову, лишая остатков воли. Но чем сильнее и острее было это всепоглощающее желание, тем болезненнее, тем невыносимее становилась внутренняя боль от осознания невозможности этого всего.
«У нас нет будущего», – нашептывал холодный, безжалостный голос разума, и эти слова резали душу острее любого клинка, оставляя после себя не кровь, а ледяную пустоту.
Она знала – если уступит сейчас, если позволит этой слабости поглотить себя, то уже не сможет остановиться. И тогда потеряет всё: себя, свою миссию, тех, кто доверил ей свои жизни и судьбы. Зачем чувствовать то, чего нельзя сохранить? Зачем открывать дверь в мир, в который ей навсегда закрыт путь?
– Мы… не можем… – снова вырвалось у неё, хотя каждое слово давалось с нечеловеческим усилием. Губы горели, распухшие и чувствительные от его поцелуев, язык отказывался повиноваться, заплетаясь. Но она заставила себя произнести это, потому что была обязана. Потому что другого выхода, другого выбора у неё просто не существовало.
Адриан не слышал её слов, вернее, слышал, но они не доходили до сути. Его взгляд прилип к её чуть припухшим, влажным от их недавних поцелуев губам. Каждое её «нет» доносилось словно сквозь толстый слой ваты. В ушах оглушительно гудела кровь, а в груди разгорался тот самый дикий, неконтролируемый огонь, который она сама же и разожгла своим откликом, своей дрожью. Он видел всё: как предательски дрожат её длинные ресницы, как её губы непроизвольно, против её воли, тянутся к нему, даже когда она говорит «нет». Видел, как её пальцы судорожно сжимают складки его рубашки, будто не в силах разжать их и отпустить. Это была самая изощрённая пытка – стоять так близко, чувствовать её жар, её дыхание и при этом ощущать, как она ломает себя изнутри. Когда она отступила на шаг, он тут же, не раздумывая, сократил расстояние. Она сделала ещё шаг назад, и он снова оказался рядом, неумолимый. Его руки обхватили её талию грубее, чем прежде, почти болезненно. Ему хотелось, чтобы завтра на её бледной коже остались синяки – тёмные отметины, безмолвные напоминания об этом моменте, о его праве. «Ты моя», – говорило каждое его прикосновение, каждый жгучий взгляд. – «И я не позволю тебе убежать».
Мелисса задыхалась. Её грудь вздымалась частыми, прерывистыми движениями. Внизу живота всё сжалось в одном сладком, мучительном спазме, когда его горячее дыхание снова опалило её губы.
«Это неправильно. Это безумие. Это нужно прекратить. Сейчас же.»
– Нет… – её ладонь резко, с силой уперлась в его грудь, отстраняя. Голос сорвался, стал хриплым. – Я не могу. Я не могу этого допустить.
Он замер. По его напряжённым, широким плечам пробежала мелкая дрожь. В глазах вспыхнул опасный, почти звериный блеск. Ноздри раздулись, вбирая воздух, скулы резко очертились под натянутой кожей. В этот момент он выглядел как благородный, но яростный хищник, сорвавшийся с цепи и готовый к атаке.
Девушка отступила ещё на шаг, чувствуя, как комната начинает медленно плыть и кружиться перед глазами. Ей отчаянно, до головокружения, не хватало воздуха – каждый короткий вдох обжигал лёгкие, как будто она дышала не кислородом, а раскалённым огнём. Когда Адриан снова сделал резкое движение в её сторону, она инстинктивно, резко встряхнула головой, и это простое, отчаянное движение заставило его застыть на месте. Его руки сжались в тугие, белые от напряжения кулаки так, что сухожилия выступили резкими полосами под кожей. Он видел её желание, оно витало между ними почти осязаемо, густое и плотное, несмотря на все произнесённые запреты. Но она стояла, сжав бледные губы в тонкую, упрямую линию, не позволяя себе сдвинуться с места ни на сантиметр.
– Чего же ты боишься? – его голос прозвучал низко, с опасной хрипотцой, которая заставила её внутренне содрогнуться и почувствовать ещё более острую слабость в коленях.
Но она не ответила, не нашёлся у неё ответ, который не звучал бы как предательство по отношению к самой себе. Она лишь молча, с трудом отвела взгляд, уставившись в окно. И в этом упрямом, горьком молчании было куда больше правды, чем могли бы выразить тысячи громких слов.
Секунды тянулись мучительно долго, наполненные лишь звуком их тяжёлого дыхания, прежде чем он глухо, сквозь стиснутые зубы, произнёс:
– Это ещё не конец. Мы обязательно поговорим.
А затем резко, почти яростно развернулся и вышел из комнаты, не оглядываясь. Дверь захлопнулась за его спиной с таким оглушительным грохотом, что дрогнули и зазвенели стёкла в оконных рамах. Ему было необходимо уйти, проветрить голову, остыть, пока он не вернулся и не натворил чего-то непоправимого, о чём будет жалеть всю оставшуюся жизнь.
Оставшись в полной, давящей тишине, Мелисса вдруг с пронзительной ясностью ощутила, как по всему её телу разливается ледяная, безжизненная пустота. Воздух в комнате ещё хранил его запах – тёплый, древесный, с едва уловимыми, но такими знакомыми нотами дыма и кожи. Её кожа помнила каждое прикосновение: где его сильные пальцы впивались в её талию, где его жгучие губы обжигали шею, где чувствовался след его зубов. Но теперь вместо того всепоглощающего тепла, только пронизывающий до костей холод и дрожь. Она подошла к большому зеркалу в резной раме неуверенными, ватными шагами. В отражении на неё смотрела незнакомая женщина с раскрасневшимися щеками, невероятно блестящими, почти сияющими глазами и странной, смущённой, но счастливой улыбкой, играющей на её опухших, покрасневших губах. Девушка медленно, почти неверяще, провела кончиком пальца по линии своего рта, проверяя – реально ли всё это было наяву, не мираж ли это. И вдруг, совершенно неожиданно для самой себя, её лицо озарила по-настоящему широкая, светлая улыбка – первая за долгие, долгие годы, идущая не от головы, а из самой глубины израненного, но всё ещё живого сердца.
Глава 17
Глава 17
Торговый район гудел, как растревоженный улей, где каждый жужжал о своём. Солнце играло бликами на медных чайниках, выставленных у лавки жестянщика. Воздух пах дымом от жаровен, где шипели лепёшки, сладким жареным миндалем и пыльной пряностью корицы и кардамона, что висела тяжёлыми связками у лавки торговца. У прилавка с тканями разгорался нешуточный спор, два купца с красными лицами тыкали пальцами в разостланный рулон шёлка, а рядом стайка ребятишек, липких от инжирного варенья, с визгом носилась между лотками, путаясь под ногами у взрослых.
Бернар шагал медленно и тяжело. Каждый его шаг отдавался в боку тупой, настойчивой болью, заставляя его сосредоточиться лишь на одном – дышать ровно и не споткнуться о неровные камни мостовой. Он шёл, уткнув взгляд в землю, и вдруг перед ним мелькнула чья-то тень, и он едва успел поднять голову, увидев хрупкую девушку, почти целиком скрытую за горой картонных коробок. Она несла свой груз очень осторожно, с вытянутыми перед собой руками, которые от напряжения мелко дрожали, и вся эта шаткая конструкция угрожающе кренилась то вправо, то влево, словно вот-вот рухнет.
– Посторонись! – донёсся её приглушённый крик из-за стопки, но было уже поздно.
Лёгкий ветерок, пахнущий корицей и карамелью, донёсся с площади, и этого дуновения хватило, чтобы нарушить хрупкое равновесие. Девушка пошатнулась, коробки закачались с ещё большей амплитудой, и в следующий миг она всей своей ношей врезалась в Бернара. Он инстинктивно подставил руки, пытаясь удержать и её, и груз, но от резкого движения в боку вспыхнула острая, жгучая боль, заставившая его скривиться и с силой выдохнуть сквозь стиснутые зубы.
– О боги! – первый её испуганный возглас прозвучал, когда коробки наконец с грохотом посыпались на мостовую. Она откинула со лба мешающие пряди каштановых волос, открыв круглое, испуганное лицо, всё в россыпи веснушек. Её губы, которые она в испуге прикусила, побелели по краям. – Вы ранены?
Бернар лишь молча мотнул головой, не разжимая челюстей, но его пальцы сами потянулись к больному месту, к тому самому свежему синяку, что скрывался под тканью рубахи. Боль пульсировала ровно, в такт ускоренному сердцебиению. Не обращая на неё, юноша двинулся дальше. Когда он поравнялся с Домом Роз, ноги сами собой замедлили шаг, против его воли. Днём это было просто трёхэтажное здание, ничто не напоминало о его ночном блеске, о дрожащем свете зеркал и шелковистом смехе, что пробивался сквозь тяжёлые бархатные шторы. Но он-то знал, что это лишь обман, маска, и от этого осознания у него в груди болезненно сжалось. Перед глазами сама собой всплыла Астра – её фигура в полумраке комнаты, мягкие пряди чёрных как смоль волос, рассыпавшиеся по обнажённым плечам, и он даже почувствовал, как в нос снова бьёт тот самый навязчивый запах её духов – жасмин с горьковатой, терпкой ноткой полыни. Он поднял глаза к окнам второго этажа, к тому самому, верхнему окну слева, и тут штора дрогнула, отодвинувшись на палец. Сердце его ёкнуло, замерло, а потом забилось с новой силой. Бернар застыл на месте, впиваясь взглядом в тёмный прямоугольник стекла, пытаясь разглядеть что-то в глубине. Может, это был просто сквозняк? Или…
– Чёрт, – прошептал он себе под нос, резко отворачиваясь. Натянул капюшон пониже на лоб и зашагал прочь, ускоряя шаг, словно мог убежать от собственных мыслей, которые вились вокруг него назойливым роем.
«Работа. Сейчас только работа», – твердил он про себя, как мантру.
Колокольчик над дверью книжной лавки звякнул тонко и пронзительно. Внутри было прохладно и пыльно, а солнечные лучи, пробиваясь сквозь щели ставен, золотили мириады пылинок, клубившихся в воздухе. За прилавком Саймон, сгорбившись, вёл неторопливый разговор с тощим типом в потрёпанном плаще с вытертыми до блеска локтями. Увидев входящего Бернара, он лишь скользнул в его сторону быстрым взглядом, тут же указав им в сторону тёмной лестницы в глубине зала, и без паузы вернулся к прерванной беседе.
«Почему небо?..» – пронеслось у него в голове.Юноша молча кивнул и стал подниматься по скрипучей, неровной лестнице. Каждая ступенька стонала и гнулась под его тяжелыми шагами, жалуясь на непрошеного гостя, нарушающего её покой. Дверь в полупустую комнату Саймона была приоткрыта, и, зайдя внутрь, юноша сразу обратил внимание на единственную личную вещь – простую деревянную рамку на тумбочке. В ней был вложен детский рисунок, изображавший небо – неистовые синие мазки и белые кляксы облаков, вырвавшиеся за пределы нарисованного коричневого забора. Он не удержался и протянул руку, осторожно, почти с благоговением, коснувшись подушечками пальцев шершавого дерева рамки.
– А что, по-твоему, здесь должно быть? – раздался за его спиной колючий голос.
Бернар резко обернулся, будто его поймали на краже. Саймон стоял в дверном проёме, скрестив руки на груди, и его губы растянулись в усмешке, обнажая зубы, а глаза сузились до хитрых, блестящих щелочек. Казалось, он только и ждал этого момента, знал, что юноша не удержится и полезет именно к этой рамке.
Бернар поспешно отдернул руку, и внезапно он почувствовал себя мальчишкой, пойманным с рукой в банке с конфетами, – глупо, нелепо, ведь он всего лишь посмотрел на рисунок, но под насмешливым, пронизывающим взглядом старика даже это простое действие казалось непростительным преступлением.
Саймон тяжело шагнул вперёд, и дверь с глухим, окончательным стуком закрылась за его спиной, отрезав путь к отступлению. Комната сразу же стала меньше, теснее, давящей. Старик грузно опустился на стул, и дерево жалобно заскрипело, приняв его вес.
– Мы в чужом королевстве, юнец, – прошипел он. – Не должно быть ничего, что могло бы выдать нас. Ни знаков, ни старых привычек, ни глупых привязанностей.
Бернар продолжал стоял неподвижно, но внутри у него всё сжалось в тугой, болезненный комок. Он видел, как Саймон, стараясь быть незаметным, пытается растереть свою больную ногу, видел, как его лицо на мгновение искажает гримаса боли, прежде чем оно снова застынет, став каменным и непроницаемым.
– Новая личность, новая жизнь, – Старик бросил на него холодный, тяжёлый взгляд, от которого по спине у юноши пробежали противные мурашки. – Запомни это раз и навсегда.
Бернар сглотнул.
– А как же семья? – всё-таки вырвалось у него, тихо и срывающимся голосом.
На тонких губах Саймона дрогнула та же безрадостная усмешка. Медленно, почти театрально, он достал из внутреннего кармана старую, помятую флягу, на которой когда-то были буквы, но теперь остались лишь намёки на них.
– А семья… – он сделал неспешный глоток, и юноша увидел, как нервно дёргается его кадык. – Семья навсегда осталась в Атреи.
Фляга в его жилистой руке вдруг показалась Бернару самым одиноким предметом на всём белом свете. Саймон откинулся на спинку кресла, и в тусклом свете его лицо внезапно стало таким старым, таким измождённым и пронизанным невидимыми морщинами тоски, что юноша невольно опустил глаза. Его грудь сжало так, будто невидимые железные руки обхватили его рёбра и медленно сжимали их. Он чувствовал, как в голове крутятся десятки вопросов, рвутся наружу, но язык лежал во рту мёртвым, одеревеневшим куском мяса. Некоторые истины, понимал он, лучше не тревожить – они, как старые, плохо зажившие раны, начинают ныть и кровоточить при первом же к ним прикосновении.
– Юнец, ты выглядишь так, будто тебя переехал змеевик, – буркнул старик, всё ещё не открывая глаз, и в его голосе сквозила привычная насмешка, но теперь она звучала натянуто.
Бернар прислонился к прохладной стене, ощущая, как ноет поясница и дрожат подкашивающиеся ноги.
– Чувствую себя примерно так же, – хрипло ответил он, на миг закрывая глаза, и в темноте под веками тут же замелькали обрывки вчерашних событий.
Саймон медленно приоткрыл один глаз, и его острый, как заточенный клинок, взгляд скользнул по лицу юноши, вычитывая каждую деталь: осунувшиеся щёки, глубокие синяки под глазами, тонкие морщинки у губ, прорезавшиеся от постоянного сжатия зубов.
– Это как-то связано с ночным происшествием?
Бернар промолчал, его взгляд медленно скользнул по комнате, задержавшись на небрежно заправленной постели, где скомканное одеяло свисало с края, будто кто-то сбрасывал его в спешке или метался во сне, не находя покоя. В воздухе ещё держался знакомый запах пергамента, но теперь он смешивался с тонкими нотками ванили и резким ароматом дешёвого мыла.
– Не важно, – он провёл ладонью по лицу, ощущая, как щетина царапает кожу. – Я пришёл не просто так. Мы нашли кое-что. Книгу.
Саймон не шелохнулся, ни единого движения, ни морщинки на лбу, ни дрожи в пальцах, только еле заметное подёргивание века выдавало, что он всё-таки слышал, – это была его привычная маска, идеально ровное выражение, за которым можно было спрятать всё что угодно: и скуку, и интерес, и холодную панику.
– Это была не просто книга, – начал юноша, глядя прямо на него, пытаясь пробиться сквозь этот непроницаемый барьер. – С виду наивные, простые сказки, но между строк… там была наша история, прописанная до мельчайших деталей. Даже упоминание о Хаосе.
И вот теперь в глазах Саймона мелькнуло настоящее напряжение, маска на мгновение треснула, он медленно поднял брови, и его взгляд стал острее, внимательнее.
– Как… – выдохнул он, едва слышно.
– Сами бы хотели знать, – глухо ответил Бернар. – Имя автора стёрто, осталось лишь начало. Мы должны выяснить, кто это был. Если жив – найти. Если мёртв – отыскать тех, кто мог узнать, и уничтожить все копии этой книги до того, как она пойдёт дальше.
– Сказания… Королевств… – пробормотал он себе под нос. – Нет, таких не помню. Хотя… – он резко поднял голову, и взгляд его вспыхнул живым, узнающим огнём. – Подожди. Да, был один случай. Уже давно. Но точно кто-то спрашивал про похожую книгу.Старик медленно выпрямился, скрестив руки на груди, и тени легли на его лицо резче, подчеркнув жёсткие складки у рта. Он слушал, не перебивая, с тем холодным, аналитическим вниманием, которое всегда предшествовало действию. Бернар описал книгу: старый, потёртый кожаный переплёт, выцветшие от времени страницы, рисунки, которые казались детскими, но тревожили на каком-то инстинктивном уровне, легенды, сплетённые из правды, и фразы, которые никто, абсолютно никто не должен был помнить. Саймон провёл пальцами по щетине на подбородке, потом по самому подбородку, прищурился, и лицо его слегка дёрнулось – он напряжённо вспоминал.
Бернар резко наклонился вперёд, его фигура заслонила тусклый свет от окна, и тенью легла на Саймона, как тяжёлая туча перед грозой, скрывая половину его лица в полумраке.
– Вы помните, кто это был?
Саймон замолчал, склонил голову, откинулся на спинку, и на секунду показалось, что он погрузился в себя настолько, что уже не услышит вопрос. Но потом медленно, растягивая слова, заговорил:
– Это был молодой человек, – протянул он. – Лица не разглядел. Он был в длинном тёмном плаще, капюшон затенял глаза. Худощавый и высокий. А ещё… перчатки, – добавил он негромко, почти себе под нос.
– Перчатки? – переспросил Бернар, нахмурившись, чувствуя, как в памяти щёлкает какой-то крошечный, но важный механизм.
Тот кивнул, не спеша.
– Чёрные, простые, потёртые. Он не снял их ни на секунду. – Мужчина посмотрел в сторону, в пустоту, будто снова видел того призрачного посетителя. – День был тёплый, воздух стоял тяжёлый, даже душный, но он не снял перчатки, словно боялся, что кто-то увидит его руки.
– И вас он не насторожил? – голос юноши дрогнул, и в нём сквозила не столько дерзость, сколько глухое обвинение.
Саймон медленно поднял взгляд, и в этот момент в комнате, казалось, по-настоящему потемнело. Его глаза, тяжёлые, усталые, пронизывали Бернара насквозь. В этом взгляде не было ни гнева, ни удивления, только снисходительная, почти жалостливая оценка, будто перед ним стоял не юноша, а неразумный щенок, решивший облаять зверя, в размерах которого даже не отдаёт себе отчёта.
– Это не моя миссия, – коротко бросил он, не меняя позы, не повышая голоса, лишь уголки его губ дрогнули в кривой, почти ленивой усмешке. – Я что, по-твоему, должен был допрашивать каждого, кто интересуется сказками? Тогда бы и к тебе у меня давно были вопросы. – На мгновение в его глазах промелькнуло острое раздражение, вызванное этой юношеской самоуверенностью.
– Помните хотя бы голос? – Бернар шагнул ближе, не давая себе ни секунды на сомнение. – Тембр, акцент, манеру говорить?
Саймон на секунду замер, а затем резко хохотнул, и этот грубый, сухой звук прозвучал в маленькой комнате откровенной насмешкой.
– Ха… ха… ха… – он качнул головой, и даже его плечи дрогнули от этого короткого, безрадостного смешка. – И что ты с этим будешь делать, юнец? Подходить к каждому высокому парню на улице и просить поговорить с тобой, чтобы послушать его акцент? – Усмешка на его лице стала шире, но в ней теперь не было ничего похожего на юмор.
Бернар промолчал, опустил глаза и медленно выдохнул, и вместе с этим выдохом из него, казалось, вышел весь пыл, вся энергия. Хрупкая надежда, что только что теплилась в груди, угасла, не успев разгореться, потому что всё было слишком зыбко, слишком обрывочно: ни имени, ни ясных примет, ни направления. Идея найти таинственного Искателя таяла прямо на глазах, как иней под первыми лучами утреннего солнца. Он провёл рукой по волосам, тыльной стороной пальцев задевая затылок, и в голове у него лихорадочно перебирались всевозможные варианты и призрачные зацепки, которые тут же рассыпались в прах.
«Что теперь? Куда идти? Где искать?»
Старик всё это время молча наблюдал за ним, и вдруг поймал себя на том, как остро и неожиданно кольнуло в груди, – он не хотел этого, не хотел видеть Тео в этом мальчишке, но не смог остановиться, его взгляд сам скользнул по знакомым чертам: та же прямая, упрямая спина, та же привычка кусать щёку изнутри, когда в голове роятся мысли, и ни одну не можешь поймать за хвост. Он резко отвернулся, но было поздно, внутри всё уже перевернулось, потому что Тео мог бы быть таким, именно таким, говорить с тем же упорством, стоять здесь, перед ним, живой – не в воспоминаниях, не в кошмарах, а по-настоящему. Веки Саймона отяжелели, взгляд потускнел, губы сжались в тонкую, жёсткую линию, и он смотрел в одну точку на стене, будто за ней был другой мир, тот, где он всё ещё может что-то изменить, но время не повернуть вспять.
Минуты две в комнате стояла полная, давящая тишина, где был слышен лишь скрип старого стула под его весом и монотонное тикание часов на полке, напоминающее, что жизнь продолжается, даже если ты хочешь, чтобы она замерла. И только спустя это долгое молчание, глухо, не глядя на Бернара, Саймон выдохнул:
– Был у него странный акцент… Не местный, с Юга, чувствовалось, но это всё равно ничего тебе не даст, юнец. – Он провёл ладонью по лицу, смахивая невидимую усталость. – Как только что-нибудь узнаю по книге, пошлю весточку во дворец. Постараюсь выяснить, кто автор.
Бернар моргнул, отрываясь от собственных мыслей, и просто кивнул, потому что все слова казались теперь лишними.
– Хорошо, тогда я пойду. У меня ещё осталось одно дело.
Он шагнул назад и, не дожидаясь ответа или прощания, повернулся к выходу, и каждый его шаг по скрипучей деревянной лестнице отдавался в тишине комнаты, словно отсчитывая секунды до его исчезновения. Секунды спустя комната вновь погрузилась в тишину. Саймон не пошевелился, он сидел, как будто кто-то посадил его и забыл сказать, что можно встать. Комната вдруг стала казаться ему тесной, как клетка, а воздух – тяжёлым, как свинец. Он сидел, ссутулив плечи, на которых ещё утром, казалось, лежала привычная воинская выправка, а теперь он будто стал меньше ростом, ниже даже собственной тени, и его глаза были сухими, но тускло поблёскивали, словно в них застряли слёзы, которым он уже давно не разрешал выходить наружу. Он смотрел в пустоту, туда, где не было ни стены, ни предметов, только память, и в груди у него жгло, как от раскалённого угля.