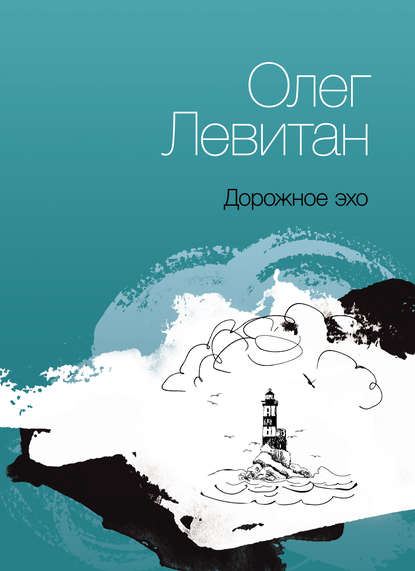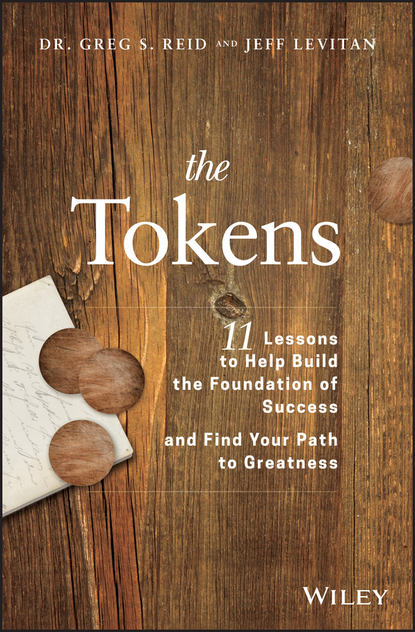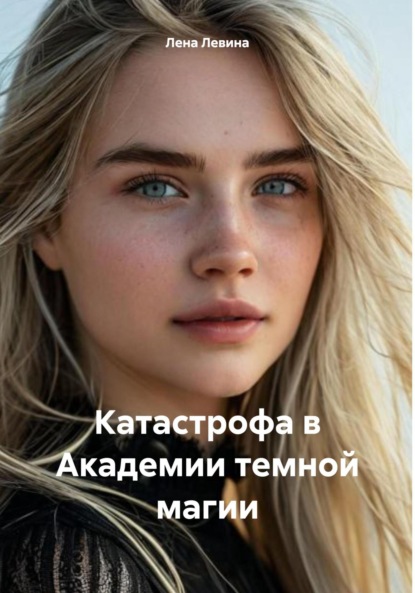Хранители Севера

- -
- 100%
- +
А теперь…
Теперь внутри, вопреки всем запретам, разгоралось что-то новое, чужеродное, что-то, отчего в груди становилось тесно и горячо, а в горле вставал тугой, болезненный ком. И самое ужасное, самое парадоксальное было то, что, несмотря на весь животный страх, на всю непривычность и опасность этого чувства, он уже не хотел, чтобы оно уходило. Никогда.
Когда-то он был просто мальчишкой – щуплым, невысоким для своих лет, с вечно взъерошенными непослушными тёмными волосами. В детстве его часто дразнили «Портняжкой», тыкали пальцами в аккуратно залатанный рукав его скромной куртки, смеялись над тем, как ловко и умело он управлялся с иголкой и ниткой. Он бежал домой, пряча покрасневшие, полные слёз глаза, и зарывался лицом в мамино мягкое, родное плечо, вдыхая знакомый, успокаивающий запах свежего хлеба и жасмина.
– Запомни раз и навсегда, сынок… – мать тихо гладила его по вздрагивающей спине. – Если чего-то очень сильно захотеть всем сердцем – всё обязательно получится. Даже если против будет казаться весь мир.
Он прекрасно помнил их семейную мастерскую – тесную, но уютную комнату, до отказа заставленную рулонами самых разных тканей, где воздух был вечно наполнен мелкой, колючей пылью от ниток и сурового полотна. Отец, всегда сгорбившийся за своим старинным, почерневшим от времени станком, чьи натруженные, исцарапанные пальцы творили самые настоящие чудеса даже с самыми капризными и дорогими материалами. Они оба, родители, всегда мечтали видеть его своим продолжателем, наследником династии, но он уже в семь лет твёрдо знал – никогда, ни за что не возьмёт в руки отцовскую иглу по своей доброй воле. И вот то самое, памятное утро, когда он, десятилетний, встал посреди мастерской, сжав свои детские, но уже твёрдые кулаки, и на весь дом, громко и чётко заявил:
– Я не буду шить. Никогда. Я стану воином. Настоящим.
Мать замерла на месте, будто её ударили. Тонкая игла выскользнула из её внезапно ослабевших пальцев и со звоном закатилась куда-то под массивный станок. В её карих, всегда таких добрых и спокойных глазах, промелькнуло что-то, отчего у него самого похолодело и сжалось внутри. Это был не гнев, не разочарование… Нечто гораздо более страшное и глубокое. Скорбь. Та самая, безмолвная и всепонимающая, что бывает только у матерей, которые вдруг с предельной ясностью осознают: никакие запреты, никакие уговоры уже не остановят собственного ребёнка, когда его решение принято окончательно и бесповоротно. Она молча, не говоря ни слова, подошла к стене, сняла алый, выцветший от времени лоскут, тот самый, что всегда висел над входом в мастерскую как семейный талисман, и протянула его ему:
– На… На удачу, сынок. Возьми.
Обряд посвящения считался одним из самых жестоких и беспощадных испытаний, через которые только мог пройти человек. О нём не говорили вслух, не обсуждали даже шёпотом в тёмных углах. Взрослые асуры, сами прошедшие через это много лет назад, лишь молча и тяжело качали головами, когда любопытные дети пытались расспрашивать их. Их глаза мгновенно темнели, становясь бездонными, а пальцы непроизвольно сжимались в кулаки, будто вновь ощущая ту боль, что не отпускала их даже спустя долгие годы.
– Не каждый выдерживает, и уж точно не каждый выживает, – вот и всё, что они говорили.
Такова была неизменная, ужасающая цена за силу – и каждый, кто рождался в их мире, знал это с пелёнок. Когда-то, в давно забытые времена, попытать счастья мог любой, достигший совершеннолетия, но слишком многие ломались, не выдерживая ни физически, ни морально. Слишком многие умирали мучительной смертью, их тела не выдерживали чудовищных изменений, а разум – запредельной, ломающей волю боли. Тогда древние правила сурово изменили. С тех пор участвовать в инициации могли только дети. Только те, кому ещё не исполнилось одиннадцати. Чьи юные, неокрепшие души ещё не успели обрасти взрослыми страхами и предрассудками, чьи хрупкие, пластичные тела были достаточно гибкими, чтобы принять и пережить то, что наверняка сломало бы и уничтожило любого взрослого.
Инициация происходила лишь раз в год, в самое тёмное и холодное время, и Бернару, которому как раз исполнилось десять, «повезло» успеть на неё, если это вообще можно было назвать везением. Единственным человеком, кто не пытался его отговаривать, была его мать. По ночам, пробираясь в уборную, он слышал, как за тонкой стенкой её сдержанные, глухие рыдания топились в подушке, которую она прижимала к лицу, чтобы не разбудить его. Но утром она всегда встречала его с яркой, хотя и немного вымученной улыбкой, крепко-крепко обнимала и подолгу гладила по волосам, будто боялась, что это их последняя встреча, последнее прикосновение.
Он навсегда, до мельчайших деталей, запомнил её последние слова. Тот морозный, пронизывающий до костей ветром, момент, когда мать стояла перед массивными, чёрными железными воротами крепости, сжимая его маленькие, холодные руки в своих рабочих, шершавых от бесчисленных иголок и грубых ниток пальцах.
– Жизнь всегда, в любой ситуации, требует от нас смелости, – сказала она, и её голос не дрогнул, хотя её прекрасные глаза были красными и опухшими от непролитых слёз, которые она не позволила себе пролить перед ним. – Ты обязательно справишься, мой мальчик. Я верю в тебя.
Эти простые слова он носил в себе, как самый сильный оберег, как личный талисман. Они звучали в его голове настойчивым эхом, когда он лежал лицом в снегу с разбитым в кровь ртом и тремя сломанными рёбрами. Он шептал их снова и снова в самые тёмные, бесконечные ночи, когда казалось, что утро никогда не наступит, когда всё тело дрожало от изматывающей боли, а разум был готов сломаться и погрузиться в безумие.
«Жизнь всегда требует от нас смелости. Ты сможешь, мой мальчик.»
И он был смелым, даже когда больше не хотел, даже когда всё внутри кричало от страха и отчаяния. Он никогда, ни на секунду не сомневался в правильности своего выбора. До сегодняшнего дня. До этой убогой комнаты в Доме Роз. До этой девушки, которая сейчас лежала рядом с ним, тёплая, живая и такая хрупкая, и от одного только её ровного дыхания в его огрубевшей груди возникало странное, давно забытое и потому пугающее чувство.
«А может, жизнь – это не только бесконечная борьба и боль? – пронеслось у него в голове. – Может, она может быть… вот такой? Простой, тёплой, без этой постоянной, грызущей боли.»
– Прости, – прикрыла она рот ладонью, смущённо пряча улыбку, но смех всё равно прорывался сквозь её тонкие пальцы. – Ты рассказываешь о своих ледяных пустынях, как о самой волшебной сказке, а не о месте, где люди замерзают насмерть. И… знаешь, мне это ужасно нравится. Я хочу верить в этот твой, добрый Север, хотя бы на одну эту минуту.Внезапный, звонкий смех Астры, чистый и искренний, разорвал давящую тишину комнаты.
Бернар повернулся к ней на бок, копируя её позу, хотя его спина уже давно ныла и затекла от неудобного положения. Но в этот момент ему было абсолютно плевать на любой физический дискомфорт.
– Откуда ты, Астра? – спросил он тихо, внимательно вглядываясь в её лицо.
Она отвела взгляд, её пальцы снова начали нервно теребить и скручивать край одеяла.
– С Восточного материка, – прошептала она так тихо, что он едва расслышал, и в её голосе появились новые, тёплые и печальные одновременно нотки. – Из маленькой, ничем не примечательной деревушки, где воздух всегда пахнет цветущим жасмином и свежим, только что выкачанным мёдом. Где солнце такое жаркое и ласковое, что иногда кажется, будто оно само хочет обнять тебя и никогда не отпускать.
Юноша удивлённо приподнял бровь, пытаясь представить этот незнакомый, яркий мир.
– Это же через всё море … – протянул он, осознавая расстояние.
– Да, – её губы искривились в горькой, безрадостной усмешке, а в тёмно-карих глазах вспыхнула и погасла тень былой, незаживающей боли. – Нас с младшей сестрой забрали, когда мне едва исполнилось десять, а Ясмин… – голос её дрогнул, – ей было всего пять. Просто пришли ни свет ни заря и увезли, как вещи. – Её пальцы с такой силой сжали ткань одеяла, что костяшки побелели, а тонкая материя вот-вот могла порваться. Голос снова дрогнул, но она быстро, почти автоматически, взяла себя в руки, привычно пряча слабость и боль за своей неизменной маской спокойствия. – Иногда я думаю… что было бы, если бы кто-то тогда за нас заступился. Если бы мы успели убежать и спрятаться. Может, сейчас я бы смотрела на рассвет над морем, где пахнет солью, водорослями и настоящей свободой… Или, – она горько усмехнулась, – может, наша проклятая судьба всё равно нашла бы способ догнать и растоптать все наши наивные мечты.
– Сестра? – переспросил он осторожно.
– Ясмин, – произнесла она, и губы сами собой растянулись в нежной, светлой улыбке, преображая всё её лицо. – Младше меня на пять лет. Вечно крутилась под ногами, как назойливый, но такой милый солнечный зайчик. – Глаза её стали мягкими, влажными от нахлынувших чувств. – Ради неё я выдержу всё. Всё что угодно. Лишь бы её жизнь была хоть чуточку легче, хоть капельку светлее моей.
Она замолчала, её взгляд устремился куда-то далеко, сквозь грязные стены этой комнаты, в давно ушедшее, но такое дорогое прошлое.
– Знаешь, я уже почти не помню лицо нашего дома, – призналась она тихо, и в её голосе зазвучала ностальгическая грусть. – Родителей забрало бушующее море во время шторма. Мы с Ясмин остались совсем одни… мы бродяжничали, ночевали, где придётся, искали еду в мусорных кучах, прятались от стражников в холодных развалинах. Я тогда думала, что это самое страшное, что может случиться с человеком… – Голос её внезапно сорвался, став хриплым. – Но я ещё не знала, что такое настоящий, беспросветный кошмар.
Её грусть резко вздымалась под тонкой тканью сорочки, когда она хрипло, безрадостно рассмеялась – смехом, в котором не было ни капли настоящего веселья, только горечь и пепел.
– Я даже научилась воровать, – произнесла она с неожиданной ноткой гордости в голосе, будто это было её маленькой, но важной победой над безжалостной судьбой. – Яблоки с рыночных прилавков, монетки из карманов зазевавшихся прохожих… Для меня это было почти как азартная игра. Пока нас в один день не поймали.
Плечи её дёрнулись в коротком, непроизвольном содрогании.
– Мадам Гартензия… – это имя вырвалось у неё сквозь стиснутые зубы, наполненное такой ненавистью, что воздух вокруг словно похолодел. – Ей с первого взгляда понравилась моя «экзотическая внешность», – она передразнила чужой, слащавый и вкрадчивый голос, полный фальшивого восторга.
Её пальцы нервно, почти судорожно закрутили чёрный локон, спадающий на плечо, пытаясь отвлечь себя, удержаться в настоящем.
– Я ненавижу свою внешность, – внезапно, сдавленно вырвалось у неё шёпотом, словно признание в самом страшном грехе. – Так же сильно и страстно, как другие, подобные ей, её обожают.
Она замолчала, с каждым произнесённым словом уходя глубже в себя, словно прячась в прочную скорлупу от слишком болезненных и ярких воспоминаний.
– Сначала здесь всё казалось… терпимым. Мы просто убирали комнаты, подавали гостям чай и сладости. – Астра говорила медленно, растягивая слова, её пальцы нервно перебирали и скручивали бахрому на краю пледа. – Я наивно думала, если буду очень стараться, если буду тихой, незаметной, серой мышкой… нас с сестрой просто оставят в покое. – Она резко сжала кулаки, и Бернар заметил, как предательски дрожат её длинные ресницы. – Но когда я начала взрослеть, когда моё тело стало меняться… всё изменилось, и очень быстро.
Последние слова повисли в воздухе комнаты, тяжёлые, густые и горькие, как полынь. Юноша почувствовал, как всё внутри него сжимается в тугой, раскалённый клубок чистой, беспримесной ярости. Он отчаянно хотел что-то сказать, найти те самые, волшебные слова, что смогут унять её боль, залатать раны, но язык будто намертво прилип к сухому нёбу, отказываясь повиноваться. Вместо этого он лишь молча, до побеления костяшек, сжал кулаки, чувствуя, как слепая, разрушительная злость растекается по его телу горячей, токсичной волной. Перед ним сидела хрупкая девушка, которая, несмотря на всё пережитое, не сломалась, не опустила руки. Он вспомнил рассказы бывалых разведчиков о знаменитом Доме Роз – как они, похаживая, восхищённо описывали его роскошные интерьеры, удивительно красивых женщин, изысканные развлечения для знати. Тогда он, как и все молодые и глупые, слушал эти истории с наивным, почти мальчишеским любопытством, даже не пытаясь понять, что скрывается за этим ослепительным, блестящим фасадом. Теперь же, глядя в её глаза, он видел всю грязную, отвратительную правду этого места. Здесь живых людей с душой и сердцем превращали в ходовой товар, где вымученная улыбка стоила дороже человеческой жизни, а покорность и подавление воли были единственным шансом выжить.
Впервые в своей жизни он чувствовал такую ясную, кристально чистую и направленную ненависть. Мысленно он уже видел, как его сильные руки сжимают горло Мадам Гартензии, как рушится под его ударами вся эта прогнившая, бесчеловечная система. Но больше всего, сильнее даже мести, он хотел одного – чтобы Астра и её маленькая сестра наконец-то обрели настоящую, полную свободу.
Как же так? Как люди могут опускаться до такого? Быть настолько алчными и жестокими? – билось в его висках. – У этих столичных кровососов есть всё: несметные богатства, изысканная еда, тёплые, роскошные дома. Почему им всё мало? Зачем они делают это с такими, как она? Что движет ими – пресыщенная скука? Жажда абсолютной власти над другим? Или просто чудовищное, леденящее душу безразличие?
Бернар досадно, с раздражением качнул головой, совсем не понимая извращённой логики жителей столицы, их морали.
Астра подняла на него свои огромные, тёмные глаза, и в этом одном взгляде была заключена вся её трагическая история, вся боль и вся надежда.
– Только из-за неё, ради Ясмин, я всё ещё здесь.
Она не хотела выглядеть слабой и беспомощной, не хотела вызывать его жалость. Не хотела, чтобы он хоть на секунду подумал, будто ей нравится или безразлична её нынешняя жизнь.
– Они прекрасно знают, что я никогда, ни при каких условиях не оставлю Ясмин одну. Поэтому и держат её под замком, вдали от посторонних глаз, как ценную заложницу. Наш уговор с ними прост и циничен: пока я исправно работаю, пока не сопротивляюсь, не пытаюсь сбежать – с ней ничего не случится, она в относительной безопасности.
Губы её искривились в горькой, безрадостной усмешке, больше похожей на гримасу боли.
– Хватит и одной меня в этом аду. Я ни за что не позволю, чтобы через весь этот ужас прошла и она. Никогда.
Её тонкие брови гневно сдвинулись, а глаза вспыхнули таким яростным, почти первобытным огнём, что Бернар невольно замер, поражённый этой внезапной силой. В этот миг она выглядела не несчастной жертвой, а настоящим, свирепым воином, готовым голыми руками разорвать любого врага. Но также быстро, как и вспыхнуло, это пламя погасло в её взгляде, сменившись привычной, глухой усталостью и отрешённостью.
– Они прячут её от меня. Прячут хорошо. Мы видимся… если мне очень повезёт, то раз в месяц. – Голос её снова дрогнул, на этот раз выдавая ту боль и тоску, которые она обычно так старательно скрывала под маской равнодушия.
Каждое своё утро она начинала с одного и того же леденящего страха – что сегодня именно тот день, когда их хрупкий, негласный договор рассыплется в прах. Что Ясмин навсегда исчезнет за очередной массивной, резной дверью этого проклятого дома, и больше никогда не выйдет оттуда. Что её маленькую, невинную сестру сломают, растопчут и перемалывают так же безжалостно, как когда-то сломали её саму.
– Но я не собираюсь оставаться здесь навсегда, – её глаза снова загорелись твёрдой решимостью, в которой читалась непоколебимая, стальная воля. – Я обязательно найду способ. Я сбегу отсюда, и заберу её с собой.
Бернар вздрогнул, перед его внутренним взором вдруг возник другой, но до боли знакомый образ – Талли. Её упрямые, ясные глаза, полные точно такой же незаживающей боли, такой же огненной, непокорной воли. Он так и не нашёл в себе сил извиниться перед ней тогда. Так и не сказал тех слов, которые, он знал, были ей нужны…
– Прости, – вырвалось у него невольно, сдавленно, прежде чем он успел осознать, что говорит это вслух.
Астра нахмурила свои тонкие брови, удивлённо и вопросительно вскинув на него тёмный взгляд.
– За что? – тихо спросила она, не понимая.
Он смущённо отвел глаза в сторону, нервно провёл большой, шершавой ладонью по своему лицу, ощущая под пальцами колючую, грубую щетину.
– Тебе не за что передо мной извиняться, – тихо, но очень чётко сказала она, и в её голосе вдруг появилась неожиданная мягкость и понимание, будто она каким-то шестым чувством уловила то, что он не смог выразить словами. – Жизнь… она ведь редко бывает похожа на красивую сказку. Я это поняла очень давно.
Она отвернулась, уставившись в самый тёмный угол комнаты, где тени от единственной лампы казались особенно густыми и непроглядными.
– Она куда суровее и беспощаднее любой сказки.
Юноша замер, почувствовав укол её горькой правды. Он инстинктивно хотел возразить, сказать, что всё может быть иначе, что где-то там, далеко, обязательно существует место, где жизнь добрее и светлее, но это была бы наглая, очевидная ложь. Они оба, прожившие свои недолгие, но насыщенные болью жизни, прекрасно знали настоящую, неприукрашенную правду. Вместо пустых слов он медленно, почти нерешительно, протянул свою руку и накрыл её маленькую ладонь своей. Его пальцы скользнули по её нежной коже легко, почти невесомо, боясь причинить малейшую боль. В этом простом прикосновении не было ни капли страсти, не было скрытых требований, только тихое, безмолвное понимание и поддержка.
Астра почувствовала, как у неё глубоко в груди что-то болезненно сжалось, а потом неожиданно, с облегчением расправилось, будто огромная ледяная глыба, много лет сковывавшая её сердце, вдруг дала глубокую трещину и начала медленно таять. Перед ней сидел совсем другой юноша – не тот грубый, замкнутый воин с каменным, непроницаемым лицом, каким он казался сначала, а мягкий, чуткий и по-своему ранимый человек. Она закрыла глаза, позволяя этому новому, тёплому ощущению заполнить себя целиком, с головой. Её тонкие пальцы инстинктивно сжали его большую ладонь, прижали её к своей груди, прямо к тому месту, где сердце билось так часто и громко, будто пыталось наверстать, отстучать все долгие годы вынужденного молчания и одиночества. В этот единственный, хрупкий миг исчезло абсолютно всё: и позолоченные, лживые стены этого проклятого места, и хроническая боль, въевшаяся в самые кости, и даже вездесущий, грызущий страх за судьбу Ясмин. Остались только они двое, и это тихое, хрупкое, но такое прочное понимание, возникшее между ними.
Бернар мягко обнял её, и она почувствовала, как всё её измождённое тело полностью расслабляется и растворяется в его крепких, надёжных руках. Его ладони, покрытые старыми шрамами и грубыми мозолями, двигались по её спине с неожиданной, почти болезненной нежностью, будто боясь оставить малейшую царапину на её хрупкой коже. Она медленно приподняла голову и впервые по-настоящему, без страха и предубеждения, разглядела его лицо – усталые, но добрые глаза с тёмными кругами под ними, глубокую, прорезавшую лоб морщину между бровей, короткую щетину, придававшую его чертам грубоватый, но мужественный шарм.
Когда его холодные пальцы коснулись её щеки, девушка вздрогнула всем телом. Никто и никогда до него не прикасался к ней так – без скрытого умысла, без желания что-то взять, что-то получить. Просто чтобы утешить, поддержать, дать понять, что она не одна. Это простое, искреннее движение словно сдвинуло внутри неё тяжёлую, проржавевшую щеколду, за которой давным-давно пряталось нечто почти забытое – та самая, наивная детская надежда, которую она когда-то наглухо заперла в самом дальнем и тёмном уголке своего сердца. Но она, вопреки всему, проросла, пустила глубокие корни, и теперь пробивалась наружу, несмотря на все её отчаянные попытки сопротивляться. И она вдруг с ясностью поняла, что не хочет, не может убегать. Не от этого человека, не от этих новых, пугающих, но таких желанных чувств. Его ярко голубые глаза, как предрассветное небо на её далёкой родине, вызывали в ней целую бурю противоречивых эмоций. В груди стало тесно от нахлынувших ощущений, дыхание участилось, стало прерывистым. По всему телу разлилось сладкое, густое тепло, словно она выпила большой глоток крепкого, согревающего мёда, смешанного с ароматными пряностями. Каждое его лёгкое прикосновение к её запястью отзывалось мгновенной, мелкой дрожью во всём её теле.
Почему именно этот суровый воин обращался с ней так бережно, так трепетно? Почему в его сильных объятиях она чувствовала себя не вещью, не товаром, а настоящим, живым человеком, со своими чувствами и правом на нежность? Она не знала, не могла знать, куда их приведёт завтрашний день. Возможно, она больше никогда не увидит его после этой ночи. Может, всё это – всего лишь случайная вспышка, мимолётное пересечение судеб. Но в этот единственный, украденный у судьбы миг, ей хотелось только одного – чтобы это мгновение длилось как можно дольше. Она крепче, почти с отчаянием, сжала его ладонь, переплетая свои тонкие пальцы с его грубыми. Её миниатюрная рука с тёплой, смуглой кожей казалась такой хрупкой и беззащитной в его огромной, исчерченной шрамами ладони. Астра медленно, почти с благоговением, провела кончиками пальцев по этим шрамам и мозолям. И вместо ожидаемого отвращения или страха, она почувствовала странное, глубокое влечение к этой грубой, мужской силе, к этой выстраданной стойкости. Вдруг что-то щёлкнуло внутри, перевернулось. Та осторожная, вечно напуганная и загнанная часть её души наконец отступила, уступив место другой – дерзкой, смелой, почти забытой, той самой, что когда-то, в детстве, умела громко смеяться и смотреть в лицо любой опасности. Она подняла на Бернара свой взгляд, теперь полный открытого вызова и скрытой, игривой улыбки, в котором читалось без слов: «Ну что, большой и грозный асур, ты вообще готов к тому, что может произойти дальше?» И он, почувствовав эту внезапную, разительную перемену в ней, замер, затаив дыхание, полностью во власти этого нового, незнакомого ей чувства.
– Спасибо, – её голос звучал низко, с лёгкой хрипотцой, которая пробежала мелкими, приятными мурашками по его коже. – Спасибо, что рассказал мне о Севере… Хотя я почти уверена, – она лукаво прищурилась, – ты очень многое там приукрасил для меня.
Девушка медленно приподнялась и встала на колени перед ним, всё ещё не выпуская его ладонь из своей. Бернар почувствовал, как по её телу пробежала лёгкая, почти незаметная дрожь. Он не мог оторвать от неё взгляда, впитывая каждую мельчайшую деталь: мягкую, чувственную линию её губ, тёплый, живой блеск в тёмных глазах, неровное, сбившееся дыхание, слегка приоткрытый в немом ожидании рот. Она не отстранялась, не пыталась убежать. Наоборот, вся её поза, каждый мускул тянулись к нему, словно она искала в нём ту самую заботу и нежность, которых ей так отчаянно не хватало все эти долгие, одинокие годы.
Он отчётливо понимал разумом, что всё это неправильно, что они идут по опасному краю. Их миры были слишком разными, их реальности – несовместимыми. Что завтра всё может в одночасье рухнуть и измениться до неузнаваемости. Он сглотнул сухой ком в горле, пытаясь заставить себя отвести взгляд, но не смог – её образ притягивал его, как магнит. Внутри всё сжималось в тугой, болезненный узел – от нарастающего желания, от невыносимого напряжения, от острого осознания, что эта хрупкая идиллия может разрушиться в любой миг. Он сжал кулак своей свободной руки, ногти впились в загрубевшую ладонь, оставляя на коже красные, болезненные полумесяцы, но даже эта физическая боль не помогала протрезветь, не возвращала контроля. В душном воздухе комнаты витал её запах – жасмин, чистый и пьянящий. Он проникал в самые глубины лёгких, в кровь, разжигая что-то глубинное, первобытное, дремавшее в нём годами. Что-то тёмное и мощное отзывалось на этот аромат, пробуждая того самого хищника, которого он так тщательно, с таким трудом, держал в узде.
– Спасибо… что позаботился обо мне… – её тихий, срывающийся шёпот обжёг его изнутри сильнее любого физического прикосновения.
Астра плавно, с кошачьей грацией, перекинула ногу через его бедро, устроившись сверху, оседлав его, не отрывая при этом от его лица своих тёмных, горящих, как угли, глаз. Её ладонь по-прежнему лежала в его, создавая точку соприкосновения, связывающую их. Юноша замер, парализованный этим смелым движением. Зрачки его расширились, поглощая весь свет, дыхание стало глубже, прерывистее, и он отчётливо почувствовал, как по всему его телу разливается тяжёлое, пульсирующее, почти болезненное напряжение. Её тонкие пальцы скользнули по его животу вверх, медленно, изучающе, словно читая невидимые письмена на его коже. Каждое движение её рук заставляло его мышцы инстинктивно напрягаться сильнее, готовясь к чему-то неизбежному. Он перестал дышать, замер. Воздух вокруг стал густым, обжигающим, и каждый новый вдох давался ему с огромным усилием, будто он вдыхал не кислород, а расплавленный металл. Она улыбнулась той самой хитрой, почти мальчишеской улыбкой, что он уже видел раньше в глубине её глаз. Её пальцы слегка дрожали, выдавая внутреннее волнение, но она не останавливалась, не отступала. И в этой хрупкой, но несгибаемой уверенности было что-то невероятно притягательное и опасное. Она чувствовала сквозь ткань его рубахи, как бешено бьётся его сердце, и это знание придавало ей странную, опьяняющую смелость.