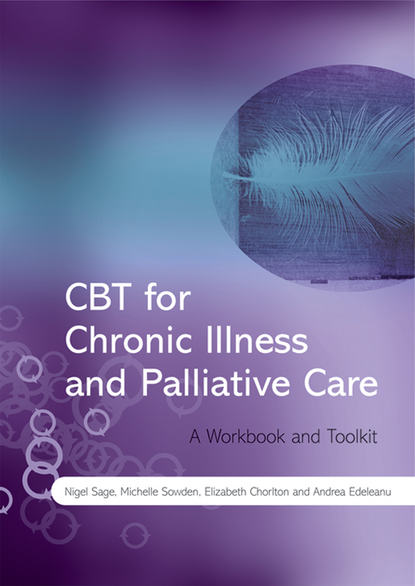Хранители Севера

- -
- 100%
- +
В тот роковой день их отряд под командованием лучших воинов ушёл далеко в горы, где разреженный воздух обжигал лёгкие, а снег лежал плотным, безжизненным покровом, скрывая под собой вековой лёд. Целью был Змеевик – редкий ледяной змей, чья полупрозрачная чешуя, переливающаяся на свету, ценилась на вес золота, ведь из неё ковали лёгкую и прочную броню, способную выдержать даже когти порождений Хаоса. Но выследить чудовище было почти невозможно: оно обитало в запутанных ледяных туннелях, двигалось бесшумно, как тень, и нападало всегда внезапно. Лишь одно могло выманить его из глубин – запах свежей крови, разлитый у входа в логово.
Их группа только достигла обледенелого входа в пещеру, когда небо над Калиосом, видневшимся внизу внезапно вспыхнуло багровым заревом. Столбы сигнального пламени взметнулись ввысь, пробиваясь сквозь дневной свет. Сэр Лестар, возглавлявший поход, замер, вглядываясь в тревожное зарево, и его обычно спокойное, твёрдое лицо исказилось напряжением. Между бровей залегла глубокая складка, а губы сжались в тонкую белую линию. Он не хотел верить, что сигнал настоящий, но едкий, неспорый запах гари, донёсшийся с ветром, не оставлял сомнений. Его взгляд скользнул к зелёным новобранцам, которые нервно сжимали рукояти оружия, будто оно могло защитить их от нахлынувшего страха – их лица побелели, а движения стали резкими и неуверенными.
– Возвращаемся! – прозвучал его короткий, жёсткий приказ, перекрывая завывание ветра.
Старшие воины начали спорить, их голоса, срывающиеся на крик, смешались в хаотичный гул. Наставник новобранцев, седой и видавший виды ветеран, особенно яростно сопротивлялся, размахивая руками и мотая головой. Он кричал о безрассудстве, о напрасной трате времени и сил, но, когда Лестар медленно повернулся к нему, один лишь взгляд командира заставил его замолчать и опустить глаза. Больше никто не осмелился возразить. Бернар запомнил всё до мельчайших деталей: тот леденящий душу момент, когда наставники резко развернулись к строю и произнесли сквозь стиснутые зубы, выдыхая в морозный воздух облака пара:
– Воины! Прорыв!
Эти слова повисли в воздухе, звеня, как обнажённые клинки, и от них у многих похолодело внутри. Строй дрогнул, кто-то сдавленно выругался, а кто-то до белизны сжал пальцы на рукояти меча, пытаясь найти в ней опору.
– Вы знаете, что делать, – голос командира резал, как лезвие, не терпя возражений. – Помните тренировки: держитесь троек, не разбегайтесь, не дайте страху взять верх. Наша задача – очистить город и спасти тех, кого ещё можно спасти.
Юная принцесса Мелисса ощутила, как сердце бешено заколотилось, пытаясь вырваться из грудной клетки, а в ушах зазвенела тихая, нарастающая паника. Её пальцы сами собой сжали ледяную ладонь Талли, стоявшей рядом, и почувствовали в ответ такую же дрожь, передававшуюся от подруги. Их взгляды встретились, полные одинакового, детского ужаса, и девушка попыталась ободряюще улыбнуться, но получилась лишь жалкая, кривая гримаса – губы предательски дрожали, не слушаясь.
«Вот и настал… Этот день.»
Тот самый день, о котором твердили наставники на всех занятиях, который снился в кошмарах, заставляя просыпаться в холодном поту. День, когда им предстояло лицом к лицу столкнуться с порождениями Хаоса. От одной мысли о них – о гнилостном дыхании, о когтях, рвущих плоть, – кровь стыла в жилах и холодели ладони. Но глубоко внутри, в потаённом уголке души, теплилось странное, почти запретное любопытство, жгучая жажда наконец увидеть их и понять, чего на самом деле стоит их страх.
– Выдвигаемся!
Мгновение оцепенения развеялось, как дым. Воины ответили громким, яростным рёвом, пытаясь заглушить собственный страх, и этот крик слился в единый гул, полный гнева и отчаяния. Мечи взметнулись вверх, сверкая на блёклом утреннем солнце, и отряд пришёл в движение.
– Нужно достичь города как можно быстрее! – Лестар рявкнул так, что дрогнул снег под ногами, и его голос эхом покатился по ущельям.
Он стоял на выступе скалы, впереди всех, и смотрел в сторону города, уже окутанного чёрным дымом. Его взгляд, обычно такой уверенный и твёрдый, теперь выдавал тревогу, которую он обычно скрывал от новобранцев. Он понимал – слишком много опытных бойцов сейчас здесь, в горах, и, если прорыв действительно случился, город остался практически без защиты.
– Вперёд! – снова крикнул он, срываясь на хрип, и отряд устремился вниз по склону, срывая камни и комья снега.
Когда они, измождённые и запыхавшиеся, добрались до Калиоса, прошло больше двух часов. Они ворвались через северные ворота, которые уже некому было охранять, и замерли, не в силах сделать ни шага. Бернар остановился первым, его ноги отказались идти дальше. Город его детства, где он знал каждый переулок и каждую вывеску, стал неузнаваем. Улицы, ещё утром наполненные запахом свежего хлеба и смехом детей, теперь были залиты тёмной, липкой кровью. Каменная мостовая была усеяна телами – мужчинами, женщинами, детьми, – и их широко раскрытые глаза, полные немого ужаса, смотрели прямо в душу, задавая один и тот же безмолвный вопрос. Воздух был густым и тяжёлым от сладковатого запаха смерти и гари. Где-то вдали, у центральной площади, ещё слышались отчаянные крики, звон мечей и оглушительный рёв тварей: кто-то продолжал сражаться, кто-то из последних сил цеплялся за жизнь, которой уже не было.
Бернар сглотнул ком, подкатившийся к горлу, чувствуя, как подступает тошнота. Он закрыл глаза, пытаясь отгородиться от кошмара, сделал шаг и услышал за спиной хриплый, рвущий душу звук. Талли, пошатываясь, отползла к обгоревшей стене и рухнула на колени, её тело содрогнулось в мучительном спазме, а пальцы впились в грязный снег, когда её снова и снова вырвало. Мелисса стояла неподвижно, вцепившись в рукояти кинжалов. Её кулаки были сжаты до побеления костяшек, а по щеке медленно катилась единственная слеза, но она даже не пыталась её стереть, будто не замечая ничего вокруг. В её широко раскрытых глазах горело то же, что и у него— леденящий ужас, горькое отчаяние и страшное, окончательное осознание случившегося.
– Мы… опоздали, – прошептала она, и её слова растворились в едком дыму, смешавшись с удушающим запахом гари и крови.
Всё вокруг говорило само за себя, кричало о случившейся трагедии. Город, ещё утром такой живой и шумный, теперь лежал в руинах, искалеченный и безмолвный. Стены домов обнажали чёрные провалы сгоревших комнат, словно пустые глазницы, а по улицам стелился густой, едкий дым, который щипал глаза и заставлял судорожно кашлять. Земля под ногами была тёплой, почти горячей, покрытой слоем пепла и тёмными, липкими пятнами крови, медленно впитывающейся в потрескавшуюся почву. А рядом, в этих бурых лужах, лежали те, кто ещё недавно смеялся, торговался на рынке или звал их по именам – теперь их мутные, неподвижные глаза смотрели в серое, задымлённое небо. Ненависть накатила внезапно, как удар волны, заполнив его всего, от кончиков пальцев, судорожно сжимающих рукоять меча, до самого горла, и он чувствовал её металлический, ядовитый привкус. Зачем сдерживаться, если мир уже перевернулся с ног на голову, а старые правила больше не значили ровным счётом ничего?
Никто не отдавал приказов, не было ни строя, ни тактики – они просто двинулись вперёд, будто кто-то невидимый наконец оборвал все цепи, сдерживавшие их до этого. Бернар шёл первым, его тяжёлый, неказистый меч, лишённый всяких изящных узоров, не рубил, а крушил и ломал, превращая каждую встреченную тварь в кровавое месиво. Он не слышал собственного хриплого крика, не чувствовал мелких ран, которые оставляли на нём когти, – только эту всепоглощающую, слепую ненависть, пожиравшую всё изнутри. Мелисса следовала за ним, как немая тень, и на её обычно оживлённом, выразительном лице не было ни единой эмоции, только глаза горели холодным, безжалостным огнём. Кинжалы в её руках сверкали, впиваясь точно в цель – в шею, в основание черепа, в щель между пластинами. С фланга, невидимая в дыму, работала Талли – её стрелы со свистом рассекали загустевший воздух, и каждая находила свою цель: в глаз, в открытое горло, в сустав. Она не промахивалась. Никогда.
Они действовали как единый, отлаженный механизм, пока что-то не пошло не так – может, внезапный взрыв разбросал их в стороны, а может, он сам слишком увлёкся, прорвавшись вперёд в слепой ярости. Когда дым немного рассеялся, Бернар наконец нашёл её. Талли стояла одна посреди улицы, сгорбившись, её белоснежные волосы прилипли ко лбу и вискам, а губы застыли в беззвучном, застывшем крике. Но самое страшное – это были её глаза. Те самые, что всегда сверкали озорными искорками, теперь излучали лишь абсолютную, бездонную пустоту, словно в них не осталось ни мысли, ни чувства.
– Что случилось? – спросил он, уже зная, что ответа не последует, но не в силах сдержать этот вопрос.
И не получил его. Ни тогда, ни позже. Сколько бы он ни спрашивал, сколько бы Мелисса ни садилась рядом с ней, ни пыталась обнять, заговорить, вытащить из этой безмолвной тюрьмы – Талли молчала, уйдя в себя навсегда.
Прорыв удалось остановить только к закату, когда солнце садилось в кроваво-багровое небо. Атрея долго и горько оплакивала своих погибших, но в воздухе уже витало тяжёлое, невысказанное понимание – это было только началом, первой ласточкой грядущей бури. Хаос, едва отступив, обязательно вернётся. Это был лишь вопрос времени.
…
– После того дня… я больше не мог оставаться в Атреи.
Голос Саймона внезапно сорвался, стал низким и хриплым, будто слова, которые он годами держал в себе, царапали горло изнутри, рвались наружу через силу.
– Нет, я хотел сбежать.
Он опустил взгляд, и в тот же миг перед ним снова встала та самая улица – узкая, вымощенная грубым, неровным камнем, с тёмными, почти чёрными подтёками, заполнившими щели между плитами. Тела. Их было так много, что они сливались в одно сплошное, жуткое пятно, а ветер тогда нёс с собой едкий запах гари и чего-то сладковатого, приторного, отчего сводило желудок. Он до сих пор чуял его в ноздрях, даже спустя все эти годы. Старик резко выпрямился на кровати, откинулся на спинку, уставившись в потолок, где медленно и бесцельно кружились мириады пылинок.
– И мне позволили, предложили войти в разведку. Я согласился… не раздумывая ни секунды. Думал, что если уеду подальше, если буду бежать достаточно быстро и долго, то смогу оставить всё это позади, как страшный сон.
В комнате повисла тяжёлая, гнетущая тишина.
Его пальцы сжали стакан так крепко, что костяшки побелели, грозя раздавить хрупкое стекло. Он попытался вдохнуть полной грудью, но воздух застрял где-то глубоко внутри, не дойдя до лёгких, и вырвался обратно сдавленным, дрожащим выдохом.
– Но нет. – Голос стал тише, почти шёпотом, полным горького прозрения. – Не работает. Ты уезжаешь, меняешь города, имена, лица вокруг… а воспоминания идут за тобой по пятам, как твоя собственная тень, которую не отбросишь.
Он потянулся к бутылке, снова налил себе, и его рука дрожала – не сильно, но достаточно заметно, чтобы тёмная жидкость плеснулась через край и растеклась по столу. Саймон ещё несколько минут просто сидел и смотрел, как напиток медленно впитывается в шершавое покрывало. Так же, как тогда впитывалась в землю кровь. Прошло тринадцать лет, а внутри – будто ни одного дня не прошло, всё так же остро и свежо.
– Я думал… если не буду говорить об этом, если зарою всё где-то очень глубоко, станет легче.
Короткий, горький смешок вырвался у него, больше похожий на стон.
– Глупец. Наивный, слепой глупец.
Боль, которую он таскал в себе все эти годы, вдруг разлилась по жилам с новой, обжигающей силой. Он поднял глаза, и в тусклом, мерцающем свете лампы лицо Бернара вдруг показалось ему до боли знакомым. Такие же ясные, прямые глаза, чуть вздёрнутый нос, даже эта мальчишеская, совсем не королевская привычка слегка приоткрывать рот, когда слушаешь что-то по-настоящему важное.
Арчи.
Сердце сжалось так резко и больно, что дыхание перехватило, и в глазах потемнело. Он бы был сейчас таким же. Почти взрослым, сильным и смелым, но ещё сохранившим в уголках губ эту детскую, доверчивую непосредственность. На мгновение перед глазами Саймона встал тот последний день – неестественно солнечный, яркий и ослепительный, слишком прекрасный для такого кошмара.
– Я бы отдал всё, чтобы вернуть их, – прошептал он, и эти тихие слова повисли в воздухе, наполненном болью и тоской. – Всё, что у меня есть, и даже то, чего нет.
Напиток обжёг горло, но эта физическая боль была почти приятной – хоть что-то настоящее, осязаемое, что могло на секунду перебить ту ледяную, пустоту внутри. Он закрыл глаза, чувствуя, как алкоголь растекается по телу короткими тёплыми волнами, но прекрасно понимал – это не спасёт. Ничто уже не спасёт.
– Только одно держит меня в этом мире, – голос мужчины внезапно окреп, приобрёл стальную твёрдость, и он поднял взгляд, в котором вспыхнул тот самый огонь, почти угасший за долгие годы отчаяния. – Желание моего сына.
В комнате снова воцарилась тишина, и сквозь неё пробилась лёгкая, почти неуловимая улыбка, тронувшая его губы.
– С детства Арчи был неугомонным, как весёлый щенок – везде свой нос суёт, всё нюхает, всё непременно пробует на зуб. Особенно кузницу любил. – Он медленно провёл рукой по лицу. – Вместо игрушек – мой молоток таскал, вместо сладостей – куски угля жевал, весь измажется, чёрный, как ночная смоль, а глаза так и горят счастьем. И вопросы… Боги, эти его бесконечные «почему» и «зачем».
Он рассмеялся вдруг искренне и глубоко, и этот смех прозвучал в тишине комнаты странно, но светло, – впервые за долгие, тяжёлые годы.
– Цеплялся за всех, кто заходил в мастерскую, – продолжал Саймон, и в его голосе зазвучали тёплые, живые нотки. – Тянул за рукав, лез под ноги, сыпал вопросами, как из рога изобилия: «А правда, что за Ледяной стеной живут другие люди? А в Южных землях совсем-совсем нет снега?»
Он опустил взгляд, в пустом стакане пытаясь разглядеть отражение того дорогого лица: веснушчатого, с вечно растрёпанными вихрами, которые никакой гребень не мог укротить, с широкой, озорной улыбкой, способной растопить лёд даже в самом холодном сердце.
– Он жил этим, – прошептал, и слова вырвались тихо, наполненные нежностью. – Просто жил своей мечтой, каждой её клеточкой.
Перед глазами вспыхнуло воспоминание – один из тех редких тёплых дней в столице, когда солнце пробивалось сквозь вечную пелену облаков и золотило крыши. Кузница гудела: звонкий перезвон металла, шипение раскалённого железа в бочке с водой, густой, знакомый запах угля и пота. Он работал, мышцы спины горели от привычного напряжения, а молоток в его натруженной руке вздымался и опускался в чётком, выверенном ритме. И вдруг – звонкий, пронзительный голосок, перекрывающий все звуки мира:
– Папа!
Саймон вздрогнул, отвлёкшись от заготовки на наковальне.
– Да, сынок? Что случилось?
Арчи ворвался в мастерскую, как ураган, – с вечно ободранными коленками, в рубахе, мокрой от какой-то уличной лужи. Его глаза горели, как два маленьких солнца, а сам он не просто радовался – он пылал изнутри, не мог и секунды стоять на месте, подпрыгивал на месте и размахивал руками, будто пытался взлететь от переполнявших его чувств.
– Я знаю, кем хочу стать!
Мужчина, не отрываясь полностью от работы, усмехнулся уголком губ, продолжая методично выковывать покорёженную полосу стали.
– И кем же, мой вихрь?
Арчи выпрямился во весь свой невысокий рост, выставил вперёд худенькую грудную клетку, а подбородок задран так высоко, что, казалось, он вот-вот запрокинет голову.
– Я стану воином! Самым настоящим!
Удар.
Но наковальня молчала. Молоток вдруг выскользнул из потных рук, и тяжёлый кусок стали с оглушительным, режущим слух грохотом рухнул на каменный пол, отскочил и едва не задел ногу. Саймон выпрямился так резко, что у него хрустнула спина, сердце заколотилось где-то в горле, а в глазах потемнело от внезапного приступа страха.
– Арчи! – его голос прозвучал грубее и резче, чем он хотел. – Не неси глупостей. Это не игра. Это опасно, смертельно опасно. Твоё место здесь, в мастерской.
Мальчик тут же нахмурился, его сияющее лицо помрачнело. Губы сжались в упрямую тонкую полоску, брови сердито сдвинулись, а руки упёрлись в бока.
– Но я уже всё решил! Окончательно!
Саймон тяжело вздохнул, провёл грязной, заскорузлой рукой по переносице, невольно оставив на лице тёмную полосу. Этот упрямый, несгибаемый взгляд – точь-в-точь как у Мирабель. Как будто сама судьба вновь подкидывала ему испытание, только теперь в облике их сына, такого же своенравного и горячего.
– И почему же ты хочешь стать воином? – опустившись на корточки, он оказался на одном уровне с горящими глазами Арчи, пытаясь понять. – Скажи мне честно, сынок. Что тобой движет?
Мальчонка замер на мгновение, пойманный врасплох таким серьёзным тоном. Его длинные ресницы дрогнули, а затем всё лицо озарилось той самой улыбкой – не наигранной, не детской шалостью, а настоящим, чистым светом, который бывает только у тех, кто ещё не разучился верить и мечтать по-настоящему.
– Потому что я хочу защищать тебя и маму, – выпалил он, не раздумывая. – Хочу, чтобы мы все вместе смогли увидеть весь мир за пределами королевства. Чтобы никто и никогда больше не жил в страхе, как сейчас!
Мужчина резко отвел взгляд, не в силах выдержать этого детского, но такого искреннего напора. В горле встал горячий, тугой ком, а перед глазами поплыли мутные круги. Он сглотнул, стараясь подавить предательскую дрожь в голосе:
– Глупый… Добрый, глупый мальчишка…
Что он мог противопоставить этой чистой, детской вере? Как спорить с тем, что светилось в глазах сына ярче и честнее, чем пламя в его горне? Саймон молча, не глядя на Арчи, поднял молоток, ощутив его неожиданную, свинцовую тяжесть. Последующие удары по раскалённому металлу зазвучали резче, отрывистее, злее, выдавая его внутреннюю бурю.
Теперь он сидел в этой душной, пропахшей бедностью комнатке, где воздух стоял густой и спёртый, пахнущий старым деревом и пылью, осевшей в углах толстым серым слоем. Его пальцы так крепко сжали стакан, что ногти впились в ладонь, но он не чувствовал физической боли, только холод стекла и несколько жалких капель на дне. Жалкие, как и все его растоптанные надежды.
– Его мечта… – голос сорвался, став вдруг чужим и безжизненным. – Вот всё, что у меня осталось от него. Я дышу ради неё. Живу ради него.
Он часто, закрывая глаза, представлял себе Атрею – не ту, что помнил, где снег вечно смешивался с пеплом, а стены города дрожали от оглушительных сигналов тревоги. Нет. В его мыслях она была другой, преображённой: крепкие ворота – настежь, по улицам идут караваны с яркими южными тканями и диковинными специями, детский смех звенит на площадях, а не приглушённый шёпот испуганных людей. Мир, в который можно вернуться, не оглядываясь через плечо. За который ещё стоит бороться.
Эта светлая картина жила в его голове годами – яркая, как путеводная звезда в кромешной тьме, но с каждым прожитым годом она тускнела и расплывалась. Он больше не был тем наивным парнем, что когда-то верил в честность и справедливость. Разведка выжгла из него калёным железом всё, что было мягким, уязвимым, человеческим, оставив вместо этого лишь голый, циничный расчёт и вечное, не отпускающее напряжение в плечах. Сколько лиц он сменил за эти годы? Сколько раз перекраивал свою собственную биографию? Документы с чужими именами, выученные до автоматизма легенды, улыбки, которые никогда не доходили до потухших глаз. Жизнь, где каждый шаг – как хождение по лезвию, где одно неверное слово, один случайный взгляд могут стать последними. Он видел за это время слишком много. Слишком много раз смотрел в глаза тем, кто на следующий день бесследно исчезал в сырых подвалах. Слишком хорошо узнал, как пахнет настоящий, животный страх и как выглядит самое низкое предательство. Правда в их мире стоила непомерно дорого – иногда ценой человеческой жизни. А ложь… ложь была дешёвой разменной монетой, которой расплачивались все, от последнего нищего до первых лиц королевства.
– Люди, – прошептал он, глядя в гнетущую темноту за окном, – люди порой куда хуже любых тварей Хаоса.
У тех хотя бы всё просто и понятно: когти, клыки, яд. А люди… люди убивают иначе, изощрённее: лживыми словами, тихим предательством, молчаливым согласием. Они улыбаются тебе в лицо, называют другом, делят хлеб, а потом спокойно, без тени сомнения, отводят взгляд, когда тебя волокут на плаху. Хаос хотя бы честен в своём разрушении, он не притворяется добром и не надевает маску благодетеля.
Внезапный скрип деревянных ножек разорвал тяжёлую, налитую болью тишину. Бернар, который ещё минуту назад сидел, сгорбившись, с опущенной головой, вдруг резко поднялся, словно его дёрнули за невидимую нить. Его спина выпрямилась в тугую струну, а в глазах – тех самых, что всего час назад казались такими юными и неуверенными, – вспыхнул настоящий огонь. Он сделал шаг вперёд, и старые половицы под его ногами жалобно застонали, а затем он медленно, но с непоколебимой твёрдостью опустился на одно колено перед Саймоном.
– Я обещаю вам… – голос юноши звучал непривычно глубоко и твёрдо, – желание вашего сына обязательно исполнится. Атрея снова станет безопасной, и её ворота будут открыты для всех.
Саймон почувствовал, как что-то горячее и колкое подкатывает к самому горлу, а глаза предательски застилает влажная пелена, которую он изо всех сил пытался сдержать, сжимая веки. Его грудь болезненно сжалась, а плечи вдруг задрожали мелкой, неконтролируемой дрожью, будто с них наконец сняли тяжёлые, невидимые кандалы, которые он нёс все эти долгие, одинокие тринадцать лет.
– Спасибо, сынок… – выдохнул он, и это слово прозвучало так естественно, будто он ждал его всю жизнь.
Дрожащей, исчерченной прожилками ладонью он провёл по лицу, смахивая предательские капли, и попытался растянуть губы в улыбке, но получилось только кривоватое, болезненное подобие улыбки, больше похожее на гримасу.
– Но ты же не за этим пришёл ко мне сегодня, верно?
Тёплая, шершавая ладонь старика легла на его плечо. Юноша поднял голову и в тусклом, мерцающем свете лампы увидел взгляд Саймона: глубокий, прожитый, с потухшими искрами былой боли на дне. Морщины вокруг его глаз вдруг разгладились, будто годы постоянного напряжения и тоски наконец отпустили его.
– Знаешь, что лучше всего умеют делать разведчики, кроме как подделывать документы и врать в лицо? – произнёс Саймон тихо, и в его голосе проскользнула знакомая, лёгкая усмешка.
Бернар вскинул брови, слегка откинув голову в сторону.
– Они лучше всех на свете читают людей.
Плечи юноши дёрнулись в судорожном спазме, а в горле встал горячий, колючий и такой знакомый ком. Голос сорвался, став вдруг детски-беззащитным и надтреснутым:
– Я не смогу без неё… просто не смогу…
Слова повисли в воздухе. Старик не ответил сразу, его взгляд блуждал по стене, где причудливо плясали тени от неровного пламени лампы. Густые, поседевшие брови то сходились в тугой, озабоченный узел, то вновь медленно расправлялись. На его лбу залегли глубокие складки.
Бернар замер, перестав дышать. Его ногти с силой впились в ладони, оставляя на коже красные, болезненные полумесяцы. В ушах стучала собственная кровь так громко, что казалось, будто это эхо разносится по всей комнате, выдавая его страх. Он никогда ещё не боялся так сильно, как сейчас, в этой тихой комнате, перед этим человеком.
Наконец Саймон медленно, с усилием выдохнул, и этот звук прозвучал громче любого приговора.
– Знаешь, какое чувство может нас и спасти… и до основания разрушить, оставив одни щепки?
Юноша лишь едва заметно кивнул, не смея пошевелиться.
– Любовь. – Губы Саймона искривились в горькой усмешке. – Она даёт крылья, когда ноги подкашиваются от усталости и кажется, что дальше идти нет сил. Заставляет идти вперёд, когда весь твой разум кричит «хватит, остановись». Но в тот же самый миг… – его голос дрогнул, – она выворачивает душу наизнанку. Заставляет совершать такое, за что потом приходится расплачиваться годами, если не всей жизнью.
Его жилистые, сильные пальцы с неожиданной силой впились в плечо Бернара так крепко, что даже через ткань рубахи юноша почувствовал дрожь этих натруженных рук.
– Но если бы сейчас, сию секунду, мне дали выбор: пройти через всю эту боль снова, каждый её миг, или никогда не знать её вовсе… Я бы, не задумываясь ни на секунду, выбрал каждую её улыбку, каждый наш рассвет, каждую ссору. Даже зная наперёд, чем всё это для меня закончится.
Мужчина резко отвернулся, уходя в тень, но Бернар всё равно успел заметить, как по его морщинистой, обветренной щеке скатилась одинокая, блеснувшая в свете капля. Саймон быстро, почти сердито смахнул её тыльной стороной ладони.
– Если ты действительно уверен, что готов идти до самого конца, что бы там ни ждало впереди… приводи её ко мне. Я помогу чем смогу.