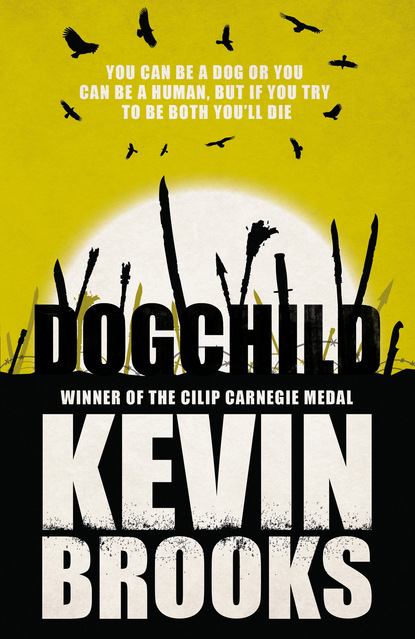- -
- 100%
- +

Пролог: Дело о несвязанном узле
Дождь стучал по подоконнику бара, выбивая монотонный, успокаивающий ритм. Именно здесь, за третьим столиком у стены, Лев Губенко в последний раз видел Алексея Корешкова живым. Тот нервно теребил салфетку, а его глаза, умные и быстрые за толстыми линзами очков, бегали по сторонам, будто выискивали в полумраке заведения незримую угрозу.
«Она не просто светилась, Лев Андреевич, – шептал Корешков, наклоняясь через столик. – Она пела. Тоненько, еле слышно. Как комар, но… мелодично».
«Что пело, Алексей?» – терпеливо уточнял Губенко, отхлебывая холодный кофе. Дело было странным с самого начала: молодой, успешный IT-специалист, без видимых врагов и проблем, вдруг начал слать в полицию анонимные заявления о «вторжении в реальность». Их поручили Губенко – молодому, но уже зарекомендовавшему себя педантичным следователю. Он встретился с парнем неофициально, чтобы понять – психическое расстройство или что-то более осязаемое.
«Ниточка, – глаза Корешкова расширились. – У меня дома. Я её нашел в воздухе, висящей. Как паутинку. Я её… связал».
«Узлом?»
«Да. И она перестала петь. Замолчала. А потом… тень от неё на стене осталась жить. Она дышала».
Губенко записал это в блокнот, пометив на полях: «Склонен к психозу? Острая паранойя. Проверить анамнез». Но что-то в абсолютной, лихорадочной искренности парня заставляло сомневаться в простом диагнозе.
Через два дня Корешкова нашли. В запертой на все замки квартире. Причина смерти – остановка сердца. Ни следов насилия, ни яда, ни лекарств. Идеальное, немое самоубийство. Или несчастный случай. Но на столе, прямо перед клавиатурой, лежал тот самый узел. Он и вправду светился – приглушенным, перламутровым сиянием, словно сделанный из лунного света и инея. Команда оперативников замерла в изумлении. А Губенко, первым надев перчатки, осторожно протянул руку, чтобы положить это в пакет. В тот миг узел рассыпался на глазах, превратившись в струйку серебристой пыли, исчезнувшей, не долетев до стола.
Но самое жуткое началось потом. На белой стене, где от узла падала тень, осталось темное пятно контура. И это пятно – медленно, почти лениво – разжалось. Тень распустила петли сложнейшего плетения, как живая, и лишь затем медленно растекалась, растворяясь в общем полумраке комнаты. Процесс занял минут пять. Все это время в комнате стояла гробовая тишина, нарушаемая только щелчками фотоаппарата и тяжелым дыханием одного из молодых оперативников.
Дело было закрыто. Официальная причина – «смерть от неизвестных причин». Слишком много странного, слишком мало фактов. Для прокуратуры – тупик. Для начальства Губенко – пятно на репутации. «Фантазии в деле, Губенко, не место. Тени не живут. Нить не светится. Закрыть и забыть».
Но забыть не получилось. С того дня в нижнем ящике старого металлического шкафа в кабинете Губенко завелся особый архив. Папка серого цвета. В ней – фотографии с мест происшествий, где взгляд застревал на деталях, не вписывающихся в картину: слишком правильный круг выжженной травы, следы, обрывающиеся на середине чистового асфальта, показания свидетелей о «вспышках тьмы» или «звуках наоборот». И первым делом в этой папке лежало дело Корешкова. На обложке Губенко вывел четким, каллиграфическим почерком: «Невозможный узел». А ниже, уже для себя: «Где логика?».
Он стал специалистом по бессмыслице. Его тихо переводили на дела, где ничего не сходилось, где свидетели сбивались в показаниях, а улики противоречили друг другу. Коллеги считали его упрямым чудаком, способным найти закономерность в хаосе. Они и не подозревали, что хаос этот имел свою, чужеродную логику. И Лев Губенко, следователь, живущий фактами, по крохам собирал доказательства существования иного мира. Мира, который однажды снова постучится в его дверь. И на этот раз – с убийством.
Дождь за окном стих. Губенко допил кофе, отодвинул пустую чашку и открыл ноутбук. На экране загорелось уведомление о новом поступлении в систему. Резонансное. Тело в «Башне Атлас». Запертая комната. Никого внутри. Он вздохнул, потянулся за пиджаком. Работа ждала. Серый архив в шкафу тихо шелестел страницами, будто говоря: «Начинается».
В престижном бизнес-центре «Башня Атлас» на 45-м этаже находят тело крупного риелтора, Артема Волкова.
Камера на этаже «Башни Атлас» была слепа.
Не сломана – слепа. За три минуты до того, как тело Артема Волкова обнаружила уборщица, объектив будто затянуло молочной пеленой. Не помехами, не рябью – именно ровным, непроницаемым белым пятном. А потом, так же внезапно, изображение вернулось. На нем был уже не живой, взволнованный Волков, жестикулирующий у стены с графиками, а неподвижная, скрюченная у окна фигура.
Лев Губенко стоял в центре переговорки, стараясь дышать ровно. Воздух был тяжелым, спертым, хотя кондиционер тихо гудел. Тело увезли, оперативники оцепили место, щелкали фотокамеры, специалисты искали отпечатки. Стандартная, отработанная процедура. Если не считать одной детали.
«Давление, Лев Андреевич, – бормотал рядом судмедэксперт, снимая перчатки. – Как будто его… сдавило со всех сторон. Но без внешних следов. Гематомы внутренние, множественные переломы ребер, разрывы. Как если бы его в тисках держали. Только тисков этих нет».
Губенко кивнул, не отрывая глаз от стола. Полированный черный камень. На нем лежал едва заметный рисунок. Не царапина, не пятно. Будто кто-то провел пальцем по тончайшему слою пыли, которой здесь, в стерильной чистоте, быть не могло. Идеальная спираль. Архимедова. Она начиналась от центра стола и расходилась к краям, виток за витком, с математической точностью.
«Пыль взяли?» – спросил Губенко, не повышая голоса.
«Взяли, но… ее там практически нет. Этот рисунок… он как будто выжжен силой, но поверхность холодная».
Губенко подошел к двери. Массивная, дубовая, с современной электронной защелкой. Логика кричала: самоубийство или несчастный случай. Но какая случайность ломает кости изнутри и рисует на столе геометрические фигуры? Он снова посмотрел на записи камер. Не на слепой отрезок, а на время до него. Волков нервно ходил по комнате. Разговаривал по телефону. Потом вдруг замер, уставившись в пустоту у противоположной стены. Его лицо исказилось не страхом, а скорее… недоумением. Он что-то сказал. Губенко включил звук, увеличил громкость.
«…Что? – голос Волкова, приглушенный. – Кто здесь?»
Потом он медленно, очень медленно начал отступать к окну, будто от кого-то невидимого. Его руки поднялись, как бы пытаясь оттолкнуть пустой воздух. И в этот момент камера забелела.
«Волков что-то увидел, – прошептал себе под нос Губенко. – Или кого-то».
Он отмотал еще дальше назад, изучая движение теней. Солнечный день, свет из панорамных окон отбрасывал четкие тени от стульев, самого Волкова, вазы на столе. И тут Губенко заметил. Тени от стульев, неподвижных объектов, вдруг «дрогнули». Не из-за изменения света – солнце не двигалось так резко. Они словно сжались, съежились, потянувшись острыми углами не к источнику света, а… к двери переговорки. За пять минут до того, как Волков замер. Будто что-то темное и бесформенное просочилось из коридора, и тени поползли за ним, как железные опилки за магнитом.
Леденящее чувство узнавания сковало его. Он видел такое раньше. В отчете по делу Корешкова, который он писал для себя, была пометка: «Свидетели (соседи) жаловались на «странные тени» в подъезде за день до смерти».
Логика, его верный компас, давала сбой. Но рука сама потянулась к планшету. Он открыл внутреннюю базу, не служебную, а свою, и начал набирать имя. Три года назад. Район старой застройки. Три разных дела: кража со взломом, где ничего не пропало, но хозяин клялся, что тени «ели» его золотых рыбок; ДТП с летальным исходом, где выжившая пассажирка повторяла про «черные руки, выросшие из асфальта»; и скандал с затоплением, где пострадавший старик говорил о «пляшущих силуэтах в воде». Во всех трех фигурировала одна и та же свидетельница. Пожилая женщина. Мария Степановна Игнатьева. Ее показания были признаны нерелевантными, фантазиями впечатлительного человека. Но ее вездесущность на границах абсурда была статистической аномалией.
Губенко закрыл планшет. «Невозможный узел» из серого архива начал распутываться, потянув за собой новую, страшную нить. Он подозвал к себе младшего следователя.
«Саня, продолжай здесь. Все стандартно. Я поеду, проверю одну старую ниточку».
«Какая ниточка, Лев Андреевич? По этому делу?»
«По всем делам, где мир сбоит», – тихо ответил Губенко и вышел из переговорки, оставив за спиной спираль на столе – молчаливый знак на забытом языке, который ему теперь предстояло выучить.
Глава 1: Танец теней в каменном мешке
Адрес Марии Степановны вел в старый, еще дореволюционный квартал, затерявшийся между стеклянными громадинами делового центра. Дом был двухэтажным, каменным, с выцветшими витражами на окнах второго этажа, изображавшими невнятные теперь геометрические цветы. На дверях не было ни звонка, ни домофона. Губенко постучал тяжелым чугунным молотком-колотушкой. Звук получился глухим, будто поглощенным толщей дерева и времени.
Дверь открылась не сразу. Сначала в щелке между косяком и полотном показалась узкая полоска лица – бледная, в морщинах, но с поразительно ясными, светло-серыми глазами, которые изучали его без тени удивления или страха.
«Следователь Губенко, – представился он, показывая удостоверение. – Мария Степановна? Мне нужно поговорить. По старому делу. И по новому».
Женщина молча кивнула и отступила, пропуская его внутрь. В прихожей пахло сухими травами, воском и старой бумагой. Не было ни электрического света, только тусклый день из окна да мерцающее пламя большой лампады перед иконой в углу.
«Я знала, что вы придете, – сказала Мария Степановна, направляясь вглубь квартиры. Её голос был тихим, но четким, без старческой дрожи. – Только не по тому делу, что вы думаете. Вы пришли, потому что мир вокруг того человека… задрожал. И вы это почувствовали. Не глазами. Вот здесь». Она приложила костлявую руку к солнечному сплетению.
Губенко, привыкший к рациональным диалогам на допросах, слегка опешил. Он последовал за ней в гостиную – комнату, заставленную полками до потолка. На полках лежали не книги, а странные предметы: кристаллы разных форм, свертки из бересты, свинцовые отливки, похожие на абстрактные символы, засушенные растения в стеклянных банках. Это была не коллекция, а скорее… инструментарий.
«Что вы имеете в виду под «дрожал»?» – спросил он, садясь на предложенный стул с жестким сиденьем.
«Все вибрирует, молодой человек, – она уселась напротив, сложив руки на коленях. – Камень, мысль, страх, радость. Моя бабка называла это «гулом земли». Я научилась его… слышать. Чувствовать кожей. Ваш мертвец в башне – он умер в тишине. Не в тишине звука, а в тишине вибраций. Его личный гул… оборвался. Будто его выключили. А до этого было напряжение, диссонанс. Он что-то нарушил».
Губенко вспомнил внутренние травмы Волкова. Тиски. Сжатие.
«Вы можете это доказать?» – спросил он, зная глупость вопроса, но нуждаясь в точке опоры.
«Доказать вам, чтобы вы положили в папку? Нет. Но я могу показать. Вы были в той комнате. Принесли ее эхо с собой». Она встала, подошла к полке и взяла небольшой, отполированный до зеркального блеска черный камень, похожий на обсидиан. «Держите».
Губенко, скептически пожав плечами, взял камень. Он был холодным и тяжелым.
«Закройте глаза. И не думайте. Слушайте… кончиками пальцев».
Он закрыл глаза, ожидая подвоха, трюка. Сначала было только ощущение гладкой прохлады камня. Потом – легкое, едва уловимое покалывание в подушечках пальцев. Оно нарастало, превращаясь в тонкую, высокочастотную вибрацию. И вдруг его сознание ухватило не звук, а его эквивалент – ощущение ледяного, безжалостного давления со всех сторон. Краткую вспышку паники, которая не успела перерасти в ужас, потому что всё кончилось мгновенно. И затем – абсолютную, всепоглощающую пустоту. Не тьму, не покой. Именно пустоту, как вакуум, где нет даже эха собственного «Я».
Губенко резко открыл глаза и чуть не выронил камень. Ладонь вспотела.
«Что это было?» – его голос прозвучал хрипло.
«Отпечаток. Как на воске. Комната запомнила последнее сильное воздействие. А камень… услышал и воспроизвел для того, кто умеет слушать. Ваш мертвец не боролся. Его просто стерли. Как ошибку». Мария Степановна взяла камень обратно и бережно положила его на место. «А спираль на столе – это подпись. Знак. Я таких раньше не чувствовала. Это не наша… музыка. Это чужое. Из другого Слоя. Геометрия без души. Порядок без смысла».
Губенко молчал, пытаясь совместить в голове показания камер, медицинское заключение и этот бред, который, однако, идеально ложился на факты. Он вспомнил серый архив. Узел Корешкова. Тени.
«Вы говорили о тенях. В старых делах».
«Тени – это следы. Или предвестники. Когда что-то из Иного Слоя пытается просочиться к нам, оно сначала отбрасывает тень здесь. Как рыба подо льдом. Тень видна, а тела нет. В комнате вашего мертвеца тени сбежались к двери?»
Губенко кивнул, пораженный.
«Значит, оно вошло через дверь. Не физически. Оно вошло как идея. Как принцип. А принципы, молодой человек, иногда убивают вернее пистолета».
«Кто… что такое «Иной Слой»?» – наконец спросил он прямой вопрос.
Мария Степановна вздохнула, как учитель, которому предстоит долгое объяснение.
«Не место. Состояние. Другая частота реальности. Где-то рядом. Иногда они пересекаются. Там живут… сущности. Не духи, не призраки. Скорее, силы природы, но не нашей природы. Одни питаются эмоциями. Другие – временем. А те, что пришли сейчас… они питаются паттернами. Порядком. Гармонией. Или её отсутствием. Они – садовники. Но сад у них странный. Они выпалывают то, что, по их мнению, нарушает общий рисунок клумбы. Ваш риелтор, видимо, был таким сорняком».
«Почему он?» – почти выкрикнул Губенко, чувствуя, как привычная почва уходит из-под ног, но цепляясь за детали дела.
«Это вам искать, следователь. Моё дело – дрожь земли и эхо в камнях. Найдите, что он нарушил. Какой порядок. Тогда найдете и причину. И следующую цель». Она посмотрела на него с странным сочувствием. «Вы теперь в их поле зрения. Вы пытаетесь прочитать их письмена. Будьте осторожны. Геометры не любят, когда за ними наблюдают».
«Геометры?» – переспросил Губенко.
«Так я назвала их в своем уме. Они мыслят формами, углами, пропорциями. И убивают… архитектурно».
Губенко вышел из дома Марии Степановны в полной прострации. Вечерний воздух не освежил его. В голове гудело от услышанного. Он сел в машину, но не завел мотор. Достал телефон, нашел в контактах номер архитектора-реставратора Никиты Борисова, с которым однажды пересекался по делу о вандализме в старинной усадьбе. Тот был фанатиком старого города, его «гения места». Губенко тогда счел его чудаком. Теперь чудаки становились ценными свидетелями.
«Никита, это Губенко. Вспомните, пожалуйста, был ли в вашей практике последнее время конфликт с риелтором Артемом Волковым? Касательно какого-то здания… которое хотели снести».
На том конце провода возникла пауза, а затем вздох облегчения, смешанный с горечью.
«Лев Андреевич? Волков? Конечно, был. Водонапорная башня Киприанова. Последняя такая в городе, 1890-й год. Шедевр кирпичного стиля. Он протащил через комиссию решение о сносе. Участок уже продан под очередную «антивандальную стекляшку». Я бился как рыба об лед. Вы что, нашли на него управу?»
«В каком-то смысле, – мрачно ответил Губенко. – Его убили. В «Башне Атлас». Мне нужна ваша помощь. Как специалиста».
«Убили? Боже… Но при чем тут я?»
«Вы верите, что у зданий есть душа?» – неожиданно для себя спросил Губенко.
На этот раз пауза была долгой.
«Я верю, что у места есть память. И сила. Особенно у старых мест, которые стали узлами. Точками, где история сконцентрирована. Вы… вы нашли что-то странное на месте убийства, да?»
«Спираль, Никита. Идеальную спираль».
Словно прозвучал пароль. Голос Борисова стал тихим и серьезным.
«Я понимаю. Давайте встретимся. Только не у меня в мастерской. Знаете парк «Липки»? Там есть старая беседка. Завтра, в десять. И, Лев Андреевич… будьте готовы увидеть город другими глазами».
Губенко положил трубку. Он посмотрел на темные окна дома Марии Степановны. В одном из них, на втором этаже, мерцал огонек лампады. Он завел машину и поехал не домой, а в офис. Ему нужно было изучить все дела фирмы Волкова, все его проекты за последний год. Искать не денежные схемы, а «нарушенный порядок». Искать следующую мишень для бездушного, архитектурного убийцы.
В сером архиве в его шкафу прибавилось. Новый файл. На обложке он написал: «Геометр. Тени. Дрожь». А ниже, как всегда: «Где логика?». Но впервые за долгое время этот вопрос звучал не как вызов, а как начало пути. Пути в мир, где логика была иной, а правила писались не людьми.
Глава 2: Переводчица с языка дрожи
Встреча в парке «Липки» была назначена на десять утра, но Губенко приехал на полчаса раньше. Ему нужно было прийти в себя, выстроить в голове хаос вчерашних откровений. Старая беседка, некогда изящная, а теперь облезлая, стояла на пригорке, с которого открывался вид на сплетение городских крыш – старых, покрытых патиной времени, и новых, сверкающих на утреннем солнце.
Никита Борисов пришел минута в минуту. Высокий, худощавый, в потертой кожанке и с рюкзаком за плечами, он больше походил на путешественника, чем на архитектора. Его лицо было напряженным, глаза быстро и оценивающе скользнули по Губенко, по окрестностям, будто считывая невидимую информацию.
«Лев Андреевич», – кивнул он, пожимая руку. Рукопожатие было крепким, ладонь шершавой от работы с материалами. «Выглядите так, будто увидели призрака. Или… кое-что похуже».
«Что-то вроде того, – признался Губенко. Он решил не тратить время на предисловия. – Водонапорная башня Киприанова. Почему вы так за неё бились? Не только из-за архитектурной ценности, я чувствую».
Никита сел на скамью в беседке, достал из рюкзака потрепанный альбом и развернул его. Там были не чертежи, а зарисовки, карты, испещренные стрелками и пометками.
«Город – это не просто набор улиц и зданий, Лев Андреевич. Это живой организм. Со своей энергетикой, ритмом, точками напряжения и покоя. Есть места… сильные. Узлы. Башня Киприанова – один из таких. Она стоит на древнем подземном ключе, её построили именно там не просто так. Она, как камертон, – говорил Никита, и его глаза загорелись фанатичным блеском. – Она стабилизировала энергетику всего этого района. Волков, продавая участок под снос, не просто уничтожал памятник. Он ломал естественный порядок. Выпускал… напряжение».
«Какое напряжение?» – спросил Губенко, мысленно отмечая совпадение терминов: «порядок» у Марии Степановны, «естественный порядок» у Борисова.
«Представьте плотину. Вы разрушаете её камень за камнем. Вода начинает сочиться, затем течь, затем – хлынет потоком. Только здесь вода – это сила места. Неосязаемая, но реальная. И когда она вырывается на свободу, она привлекает внимание. Разную». Никита посмотрел на Губенко пристально. «Вы сказали про спираль. Я читал старые записи, легенды. Сущности, которых называли «стражами равновесия» или «чертежниками реальности», оставляют подобные знаки. Они приходят, когда баланс нарушен катастрофически. Чтобы… восстановить его. Радикальными методами».
«Убийством?»
«Устранением источника диссонанса, – поправил Никита. – Для них человек, ломающий узлы, – как раковая клетка для организма. Его удаляют. Волков стал первой такой клеткой».
Логика, пусть и извращенная, начала проступать сквозь туман. Губенко достал блокнот.
«Значит, если мы найдем другие «узлы», которые находятся под угрозой или уже повреждены благодаря деятельности Волкова или его фирмы, мы сможем предсказать следующую цель?»
«Теоретически – да. Но я не убийцу ловить предлагаю, – Никита провел рукой по карте в альбоме. – Я предлагаю понять логику. А потом… защитить следующее место. И его хранителя. Если, конечно, он ещё жив».
«Хранителя?»
«Да. Часто у таких мест, особенно старых, есть неформальные хранители. Люди, которые подсознательно или сознательно тяготеют к ним, поддерживают их. Садовник в старом парке, сторож в заброшенной усадьбе, коллекционер, чей дом стоит на разломе… Они, сами того не ведая, подпитывают узел своей энергией, вниманием, любовью. И он, в свою очередь, защищает их. Пока баланс не нарушен извне».
Губенко вспомнил спираль на столе Волкова. Подпись. Счет.
«Значит, следующий удар может быть не по бизнесмену, а по такому… хранителю?»
«Если он воспринимается системой как часть проблемы – да. Если он допустил, чтобы его место осквернили, или сам нарушил его гармонию». Никита замолчал, что-то обдумывая. «У меня есть… карта. Неполная. Сделанная по ощущениям, старым картам, легендам. Там отмечены ключевые узлы города. Я сверил её с недавними сделками по недвижимости, которые проходили через контору Волкова. Есть несколько совпадений. Одно – самое тревожное».
Он перелистнул страницу и указал на эскиз – сложный рисунок частного сада с лабиринтом из живой изгороди, прудами, альпийскими горками. Рядом была приклеена вырезка из журнала о ландшафтном дизайне.
«Ботанический сад Виктора Леонтьева. Он находится в частном владении, в черте города. Леонтьев – потомственный коллекционер, фанатик. Он тридцать лет создавал этот сад, свозил растения со всего мира. Место… невероятной силы. Самый настоящий рукотворный узел. И оно – в списке на продажу. Опять же, через фирму Волкова. Леонтьев, по слухам, в долгах. Вынужден продавать. Сделку вот-вот должны замкнуть».
Холодная тревога сжала грудь Губенко. Он посмотрел на дату на вырезке – месяц назад.
«Мы должны к нему поехать. Сейчас».
«Я пытался связаться, – покачал головой Никита. – Он не отвечает на звонки уже несколько дней. Говорит экономка, что хозяин нездоров и никого не принимает».
«Это уже не болезнь, – мрачно сказал Губенко, вскакивая. – Это предсмертная тишина. Давайте адрес».
Дорога до загородной усадьбы Леонтьева заняла около часа. Высокий кованый забор был приоткрыт. На звонок у ворот никто не ответил. Обменявшись тревожными взглядами, они вошли.
Тишина в саду была неестественной. Не просто отсутствием звуков города, а густой, плотной, давящей тишиной. Воздух был неподвижен. Ни пения птиц, ни жужжания насекомых.
И тогда они увидели.
Сад был мертв. Нет, растения не завяли. Они были… подстрижены. Но не так, как это делают садовники. Каждый куст, каждое дерево, каждая клумба были выстрижены с кристальной, пугающей симметрией. Геометрические фигуры: идеальные шары, конусы, кубы, спирали из самшита. Дорожки были посыпаны разноцветным гравием, выложенным в точные, повторяющиеся паттерны. Это было красиво. Смертельно, стерильно красиво. Как чертеж, перенесенный в реальность.
«Боже… – прошептал Никита, останавливаясь как вкопанный. – Он уже был здесь».
Они побежали по центральной аллее к дому, небольшому особняку в стиле модерн. Дверь тоже была приоткрыта. В гостиной, в кресле у камина, сидел пожилой мужчина в халате. Виктор Леонтьев. Его глаза были открыты, смотрели на очаг, в котором не тлело ни полена. На его лице застыло выражение не ужаса, а глубочайшего, почти философского изумления.
Никита, побледнев, шагнул назад. Губенко, преодолевая оторопь, подошел ближе. Причину смерти предстояло установить патологоанатому, но тело выглядело нетронутым. Если не считать одного.
На груди Леонтьева, поверх халата, лежала сложная композиция из опавших листьев, тщательно подобранных по цвету и размеру. Они были выложены в идеальный фрактал – бесконечно повторяющийся узор, уходящий вглубь самого себя. Шедевр из смерти и увядания.
И на полу, у кресла, на паркете из темного дерева, кто-то или что-то прочертило ту же самую спираль, что была на столе Волкова. Только здесь она была выжжена в дереве на полсантиметра вглубь, будто раскаленным штампом.
Губенко отвернулся, чувствуя приступ тошноты. Он достал телефон, чтобы вызвать группу, но рука дрожала. Он посмотрел на Никиту. Тот стоял, прижавшись спиной к косяку двери, и смотрел не на тело, а в окно, на искалеченный сад.