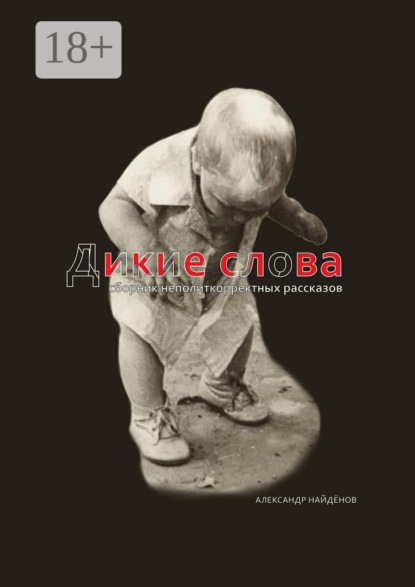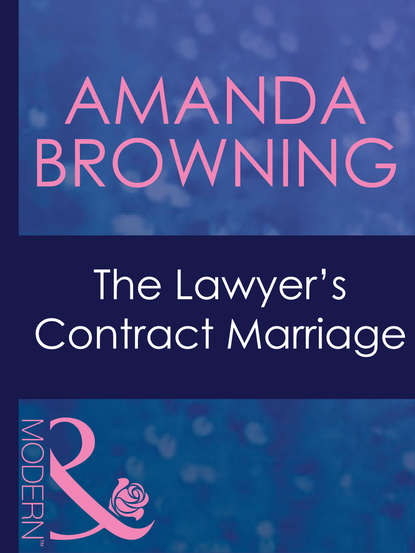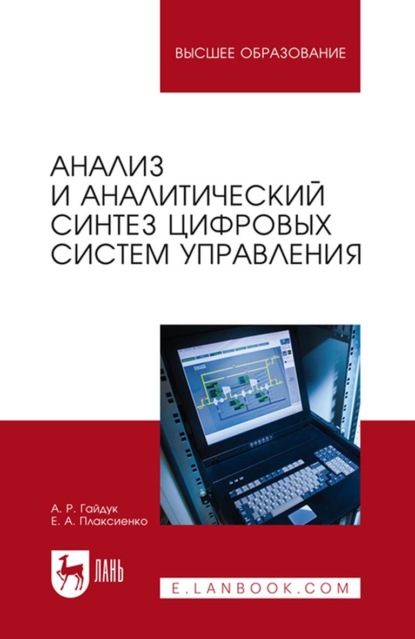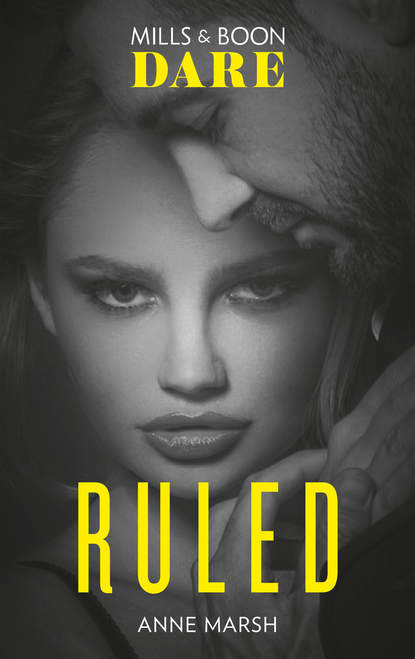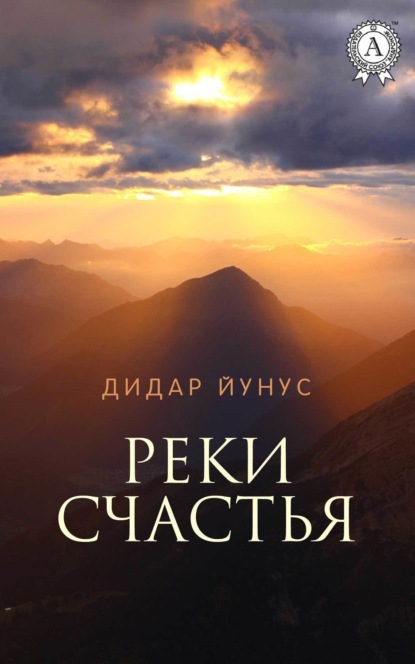- -
- 100%
- +
…На пути к Врубелю с каждым шагом нарастает тяжелый запах сирени. Огнями святого Эльма, как гирляндами, вспыхивают дубки Шишкина, искрятся гребни коммерческих бурь Айвазовского: никто не в силах противостоять минотаврам бессонных ночей. И вот темный вход в царство безумия – земля Врубеля! Там на темных стульях, проросшие фиолетовыми цветами, всегда сидят неподвижные фигуры; они неотрывно смотрят на демона с меняющимся ликом. Мерно пульсирует космическая сирень: ослепительная, как солнце, тугая, как подушка безопасности, острая, как инфаркт…
Я старался туда не ходить.
************
Позвав меня в домашний кабинет, отец сказал: «Так ты никогда не станешь настоящим человеком!».
Со вкусом открыв симпатичный томик, он прочел: «Когда я выходил из церкви Святого Креста, у меня забилось сердце, мне показалось, что иссяк источник жизни, я шел, боясь рухнуть на землю… Чувствуешь? …Я видел шедевры искусства, порожденные энергией страсти, после чего все стало бессмысленным, маленьким, ограниченным, так, когда ветер страстей перестает надувать паруса, которые толкают вперед человеческую душу, тогда она становится лишенной страстей, а значит, пороков и добродетелей…»
Не дождавшись ответа, он продолжил: «Это Стендаль. Могучий пламень Рафаэля потряс, но не унизил, раздул, а не задул жар в его груди. Он плакал, но шел – гуманист перед гуманистами. А куда придешь ты с закрытыми глазами и перекошенной рожей?»
*************
Наконец я понял: основная опасность – не в конкретной картине. Это их интерференция страшна, как бессмысленная сила толпы. Можно мирно разойтись почти с каждым шедевром. Если последовательно концентрироваться на отдельных полотнах, то зал, а то и два, остаются за плечами почти безболезненно.
А скоро и возраст пришел мне на помощь: ведь в старших классах простительно отойти от искусства. Необходимость поступать в вуз взяла свое.
Шли годы. Я зажил самостоятельной жизнью: учеба в институте, встречи, вечеринки, поездки… Женился, перестал заниматься шахматами, посещать галереи, читать книги. Потом много пил и зарабатывал деньги. Когда пить уже не смог, а деньги не заработал, снова вернулся в тенистые залы ГМИИ.
С удивлением вернулся. После детских мучений, казалось, меня туда калачом не заманишь. Но, видимо, было, к чему возвращаться. Однако я опоздал: картины перестали замечать меня. Разве цепляли самую малость, как когти домашнего кокер-спаниеля.
Я почему-то испугался. Впрочем, почему «почему-то»? Люди не любят терять даже ненужные или опасные предметы: ржавую гранату или надоевших женщин. Как спортсмен после травмы, я начал фанатично тренироваться. Чуть ли не каждый вечер, закончив работу, отправлялся в музеи. Бродил по залам, вплотную сближаясь с экспонатами, вдыхал аромат древних красок, тер позолоту рам, ругался со смотрителями, перекусывал в музейных буфетах, снова и снова выходил на площадку.
И наконец прорвало! С каждым новым походом в картинную галерею шрамы в душе углублялись. Постепенно появлялась чувствительность. Но не та, что была раньше. Другая!
Странно, думал я, перед пейзажем душа поет: поют нарисованные птицы, сердце греет ласковое солнце… А на природе больше греется тело, и даже в ясную погоду все выглядит совсем не так ясно. И дело не в подлом слепне, комарах, мозолях, несварении… В чем-то другом.
Вот художники-передвижники. Сплошная распутица, низкое непроглядное небо, а на душе – светлая грусть. Так выйди в оттепель на улицу, провались по самое не хочу в сугроб и радуйся: ты – передвижник. Но нет же, нет… И дело не в промокших брюках, а в чем-то совершенно другом.
«Ах, были бы у меня деньги, купил бы я у Левитана его „Деревню“, серенькую, жалконькую, затерянную, безобразную, но такой от нее веет невыразимой прелестью, – это уже Чехов, – что оторваться нельзя, – писал он кому то, – все бы на нее смотрел да смотрел».
Ну да, на серенькую, безобразную деревню, в которой сам часа бы не высидел!
Но куда ты глядел на самом деле, когда видел эту картину? Куда? Куда мы все смотрим?! Я выбрал для опыта «Над вечным покоем» и долго вглядывался в полотно. Но так и не понял, куда я смотрю.
Проходили люди, говорили разное, но больше о своем. Что река широка, а краски мрачны; говорили о маленькой церквушке у старого кладбища, о тропинке, ведущей к смерти, о бесконечных русских далях и свете в оконце. Говорили про вечный покой, а еще, между собой: «Не умеешь рисовать – не суди…»
Я видел войну туч, слияние вод, ладью жизни, увенчанную могилой, дорогой и храмом, но не видел покоя, а только скол судьбы, край бесконечности и вечную борьбу.
Но так и не понял, куда смотрел. Впрочем, главное уловил: картина выше художника.
Оттого не прощают холсты своего рабства выставочным залам, где их блестящие древним маслом тела униженно выставлены для просмотра; залам, где ходят сытые покупатели, заглядывают в рот, щупают мышцы, проверяют зубы, судят, трындят, оценивают: «Очень позитивненько… Нежно… Так и хочется уплыть… Халтурщик! И я так могу!.. Ух ты, молодца, надо подуть в трубу… Совсем никакой!».
Не так, не так надо встречаться с картиной!
Только с одной надо приходить на свидание, только с почтением, как якут перед выстрелом в медведя: прости, мол, Михайло Потапыч, мы к вам со всей душой, но ведь надо!
Один на один, ты и картина, и больше никого: ни людей, ни других полотен, только вы вдвоем.
Так отныне и я буду встречаться, только так.
Заранее тщательно выбирал полотно, изучал сюжет, размышлял: о чем думал автор и о чем не думал, что хотел выразить? Узнавал художественные особенности работы, мнения современников, аллюзии, ссылки, суждения известных искусствоведов, критику…
Приходил на встречу только в одиночку; стоял, вооруженный знаниями, до отупения.
Картины вели себя спокойно, чопорно здоровались, отдавая должное моему почтению, но не более. Дальше дело не шло. Я бесился, но так и не понял, во что смотрю.
«Каков валёр, – сказал Серов Грабарю перед „Девушкой освещенной солнцем“. —Мне самому чудно, что я это сделал. Тогда я вроде с ума спятил, надо это временами: нет-нет да малость спятить, а то ничего не выйдет. Написал эту вещь, а потом, сколько ни пытался, ничего уже не вышло, весь выдохся». Он пытался 36 лет.
Много позже уже Грабарь горевал перед своей «Февральской лазурью» о том, что ничего подобного не создал за сорок лет.
«Грачи прилетели, – брюзжит про Саврасова лощеный Бенуа. – Картина выше своего времени и его личного таланта, что и для него создание ее было неожиданностью, плодом какой-то игры вдохновения».
У самого Лексея Кондратьевича распахнут тулуп, рубаха разорвана до пупа. «Смотрите, мужики, – орет он ямщикам, – на настоящего академика! Когда Саврасов отдыхает, все русское искусство на отдыхе… Маляры! Все равно никто не напишет вторых „Грачей“! Скопцы! Где им понять земную красоту! Краска у них только разноцветная, а души в ней нету», – с размаху роняет голову в бадью с водой, меж лошадиных губ в тонком льде морозного утра.
Нет души?!
Есть! Про душу свидетельствовал Крамской: дескать, много хороших пейзажей, «но всё это – деревья, вода, и даже воздух, а душа есть только в „Грачах“…»
Написать за всю жизнь одну картину с душой – это мало!? Ну, пусть иногда две. Очень многое, видимо, должно совпасть для переселения душ. Наверное, нечто большее, чем человеческое желание.
Душа картины – не душа художника. В рождении чудовища Франкенштейна участвовало небо. Удар молнии высветил башню алхимика до последней песчинки; в громовой тишине колодезный журавль роняет ведро в гаснущий пламень далекой воды, и только в оконце под самым шпилем мерцает свеча. Там, между землей и небом, разорванная и спаянная огнем, рождается жизнь.
Я знал за собой недостаток (или достоинство) – придумать и насочинять с носовой платок и завернуть в него земной шар.
И все же, как ни крути, душа художника остается, не может не остаться, в его полотне. Только этого мало. Мала человеческая душа, настоящие Картины ведут к чему-то немыслимому, невозможному, непознаваемому… Не художник бродит в потемневших полотнах. Он – старый и слабый привратник, заботливо, как в театре, раскрывающий занавес великого представления.
Но если художник – привратник, то куда мы все-таки смотрим? Куда? Что там, за занавесом?
А может, живописец – садовник, сажающий цветок? Когда посев удачный, за дело берутся стихии: солнце вода, земля? Ясно одно: оттуда, из щели между портьерами, ОНО смотрит на нас. Вечное, недосягаемое… вечно недосягаемое!
************
Это случилось в Третьяковке, в зале передвижников, где висит «Лунная ночь на Днепре». В полуметре от картины стоял человек в черных очках с тростью. Я примостился поодаль.
Человек в постоянном движении: вот он наклоняется ближе, почти к самому холсту, несмотря на явное беспокойство смотрителя; капелькой ртути скользит по краске то, что у зрячих называется взглядом. Слепой явно многое знает или говорит с картиной на непонятном языке. Несомненно, он чувствует полотно лучше меня. Его лицо, как лицо велосипедиста, проезжающего за забором в солнечный день, ежесекундно меняет тень на свет: он живет и дышит холстом цвета старого купороса.
И вдруг он застыл, как будто… нашел, ощутил, понял? Секунду, даже две напряженно смотрит и, неожиданно быстро развернувшись, почти без помощи палки бежит мимо меня.
Сначала я бросился за ним, но тут же остановился, осознав бессмысленность вопросов. Теперь я знал, что делать.
Для чистоты эксперимента я выбрал самый нелюбимый зал: Европу XVI – XVII веков. Несколько минут постоял перед входом, отпустил глубоким дыханием напряжение и вошел.
Осторожно, маленькими шажками, глядя исключительно на носки собственных ботинок, приблизился к первой картине. Закрыл глаза и поднял голову.
Сначала – ничего, потом… ничего и… потом ничего!
Прошло пятнадцать минут. Потихоньку, пингвиньим ходом передвинулся к следующей картине, и снова… Нет, теперь я что-то чувствую.
Легкое покалывание носа и кончиков пальцев. Мало. Не рассмотрев толком изображение каких-то танцующих тел, перехожу далее и… кажется, наконец чувствую! В темной бездне зажмуренных глаз осторожно забрезжила белая точка. Она быстро растет, затем расплывается, меркнет посередине, разделяясь на три маленьких квадрата, за которыми намечается шлейф. Квадраты стремительно увеличиваются, приближаются со скоростью реактивных истребителей; их шлейфы превратились в три толстые, похожие на рельсы, тяжелые линии… Что это было?
Я открываю глаза. Художник разложил на столе череп, книгу и шлем с пышным плюмажем посередине. «Любование тщетой». Философский натюрморт от «малых голландцев». Не сказать чтоб шедевр.
Я снова судорожно закрыл глаза, но продолжения не последовало. Как в калейдоскопе, в разных сочетаниях и формах передо мной клубилось уже увиденное.
Следующие три картины прошли безрезультатно; четвертая принесла мягкое тепло и легкость полуденного воздуха, струящегося меж нагретых камней. «Это Богоматерь», – мгновенно и окончательно понял я. С улыбкой открыл глаза, чтобы увидеть… отвратительную физиономию толстого попа с выбритой тонзурой. Однако! Чувствую, что расслабиться уже не удастся. Солнечный луч, так некстати пробивший облако, засветил мое веко радужными красками, разрушил ощущение невидимого образа.
Скрываясь от солнца, заворачиваю в тенистый закуток в конце зала. Ноги не идут. Странно! Все ж подхожу, размещаю себя напротив первого с краю полотна… и сразу чувствую толчок (я даже подумал – от неловкого посетителя). Между мной и картиной не более полуметра. Стою с закрытыми глазами. Считаю до ста, глубоко дыша, вытираю о джинсы вспотевшие руки и снова замираю.
Да нет же, нет, картина толкается! Правда! Делаю еще перерыв, осторожно захожу за другую сторону перегородки. Решившись на последнюю попытку, возвращаюсь – то же самое! Опять толкает, даже если немного наклониться вперед! Да кто же ты?
Старуха! Рембрандт! Из темного «окна» картины желтеет сморщенное лицо. Я еще долго стоял перед ней. Потом все же дошел до конца зала.
Откликнулись «втемную» немногие картины; пожалуй, только одна из пяти породила неясные образы. А может, я был слишком занят старухой.
Или все это мне только показалось? Надо еще на ком-то попробовать. Мой выбор пал на Николая – сорокалетнего начинающего актера, человека экзальтированного, но легкого на подъем. Взявшись за руки, мы медленно обходили залы. Мой спутник, в силу природного темперамента, вертелся, как кубарь: не мог спокойно выстоять ни у одной картины. Но, к моей радости, он задержался перед «Старухой». Я насилу его увел: слишком долго «смотреть» – тоже плохо. Минут через пятнадцать Николай спросил, можно ли открыть глаза. Из него полились впечатления.
– Это действительно существует! – он тоже ощутил контакт и так же, как я, ничего не понял. Сильнее всего его «накрыло» перед Эль Греко.
– А бабка нет, – сказал он про старуху Рембранта, – ничего не почувствовал, голяк.
– Ничего?!
Получается, старуха неприветлива только со мной? Так кто же она?
Картина датируется 1695 годом: она создана за пять лет до смерти художника. Старая женщина, темный градиентный фон, интенсивный, будто подсвеченный, белый цвет, руки скрыты в меховой муфте. Она как будто смотрит из бездны… из глубины прожитых лет? На лице тихое примирение с прожитыми годами и, пожалуй, что-то еще, трудноразличимое…
Я еще два раза приходил к картине: когда был в подпитии и с похмелья. В первом случае старушка казалась подозрительно веселой, во втором – чересчур подавленной. В четвертый раз я заявился кристально трезвым, и женщина снова оттолкнула меня. Мало того: мне стало страшно. В душе поселилась тревога. Она заставила меня взяться за книги.
1695. Рембрант уже стар. Райский брак с Саскией остался в сладостных воспоминаниях; его счастливая звезда закатилась. Умерли дети, умерли родители, амстердамские бюргеры нарекли художника колдуном. Заказов нет, денег тоже, банкротство, вокруг пустота, впереди – смерть.
Он полюбил писать старых людей. Он ищет в морщинах тайну смерти? Некоторые специалисты считают эту женщину невесткой Рембрандта, женой его брата Адриана. Ее звали… Я так и не нашел, как ее звали. Просто «жена Адриана».
Я снова и снова вглядываюсь в картину: оцениваю позу, настроение, замысел и посыл. Замечаю еле видимые струи, которыми выделено лицо старухи, беловатые рефлексы на подбородке, неподвижности глаз, печаль, отрешенность и что-то еще…
Если на портрете действительно жена Адриана, я понимаю, почему она в обиде на художника: «Мой муж, твой брат, всю жизнь горбился на мельнице, оплачивал твою учебу, а ты ни флорином не помог нам, когда был богат и знаменит. Теперь, когда твои дела пошатнулись, ты вспомнил о старых родичах. Зачем нам твоя картинка?»
Может, старуха отталкивает не меня, а Рембрандта? Но я-то при чем?
…Женщина на полотне наклонилась влево, а смотрит вправо и вниз; она опустила голову, следовательно, находится во внутреннем диалоге. Может, что-то обдумывает, а может, размышляет над тем, что сказать. Руки сцеплены: «признак неудовлетворенности», как об этом пишут в учебниках по коммуникации. Она не согласна с кем-то, она борется с собой. Нет, она не смирилась.
Картина погружена в багровые тона: они наложены неплотно, как дымка, как муар застилающий глубину, из которой вышла старуха. Я чувствовал за ней бездну: как будто заглядываю в платяной шкаф, но не могу пройти сквозь него в фантастическую страну, довольствуясь неверными отсветами и бликами. Мне казалось, я даже слышу смутный гул.
Старуха презрительно улыбалась: «Знаю, а не скажу». Я готов был выпрыгнуть из себя, чтобы проникнуть в глубину, откуда она вышла… но тщетно.
Тогда мне в голову пришла безумная мысль, что эта картина – не для меня.
Так может, картины вообще не пишутся для людей? Они создаются для нелюдей, которые придут после нас или живут выше нас? Мы смертны, а картины вечны. Художники, рабы и мученики, всю жизнь творят на таинственных заказчиков, получая за свои труды скупые похвалы космоса, но чаще всего – нечеловеческие страдания.
Действительно, почему мы думаем, что картины предназначены для людей? Рембрандт – колдун? Может, не я изучаю картину, а картина изучает меня? Но для чего, или для кого?
«Все, – зашевелилось в голове. – Передо мной неразрешимая загадка». Может, они смотрят на нас оттуда, с той стороны галереи, и разглядывают мое лицо? Или нет, старуха смотрит на свою картину, сакральным смыслом которой являюсь… я?!Мда, картина еще та…
Платяной шкаф, портал, теория относительности для неандертальца? Казалось, крыша у меня немножко поехала. Мелькнула безумная мысль: сделать шаг в картину, просто сделать, головой вперед, один шаг – и получить ответ на все вопросы. Не знаю, что меня остановило. Наверное, страх. А может, не поверил такому примитивному способу? Или остановил пронзительный крик смотрительницы?
Оттолкнув схватившую меня за рукуженщину, я ушел из музея.
************
Старуха скажет? Что? Старуха зовет? Как бы не так! Она просто издевается надо мной.
Проснувшись в два часа ночи, я понял, что не все можно объяснять: головы острова Пасхи, пирамиды инков… старуху из «Пиковой дамы»… «Тройка, семерка туз…» Она ли обманула Германа, или Герман обманулся сам, а может, и то и другое? Кто знает, и знал ли Пушкин?
Когда же в акварели рассвета начали растворяться мягкие звезды, мне до слез стало жаль их возвышенной смерти и отчаянно захотелось проводить их в последний путь.
Стояла странная для Москвы тишина: тронь – и рассыплется…
И опять потекли мысли, утренние и медленные, как стылая вода: незачем искать то, что не понять, что, возможно, даже не существует, а может даже опасно или совершенно не нужно. Какую радость от этого можно получить? И стоит ли это жизни, если жизнь вообще чего-то стоит? Даже художнику иногда перепадает радость творчества. А мне? Стучаться в закрытую дверь в надежде на чудо?
Мир полон вопросов, на которые нет ответов. Вдруг все устроено, как бесконечный замкнутый лабиринт, по которому можно двигаться, но из которого нельзя выйти? Так кто я: странник или крыса, вечно мечущаяся по лабиринту? Даже в смерти есть утешение: после нее не остается вопросов. А у меня только они и есть. Много есть… вернее, сейчас только один. На что я смотрю? На что же в действительности я смотрю?
************
Открылось! Оказывается, даже голландская поэзия умеет радовать.
Ах Рембранд, нарисуй голос Корнелиса, Его видимая часть – самая в нем неважная, Невидимое можно узнать только с помощью ушей. Кто хочет увидеть Ансло, должен его услышать.
Эти стихи Вондела к портрету проповедника Корнелиса Ансло наконец открыли мои закрытые глаза. «Художник снова и снова пытался изобразить в картине голос проповедника, – пишут филологи. – Рембрандт даже выгравировал это четверостишие под третьим портретом Ансло». Я уверен: только из-за стихов они вообще догадались про голос, а я сразу почувствовал, только не знал, как назвать. Ему удалось написать слово, мне – услышать. Вот только не смог перевести. Но ведь и египетские иероглифы тысячелетия ждали своего Шампольона – дождутся и слова Рембрандта. У меня мало времени и слишком грубый слух, но я буду упорно работать и наконец попаду в мир, по которому бесконечно путешествует художник. Который стережет старуха. Которым дышит картина. Который не отпускает меня. Не наш мир, иной!
КОРВАЛОЛ
К сорока годам Петру все надоело, хотя жил он в полное свое удовольствие. Была жена Катя, а детей не было, и не было связанных с ними проблем. Ему давно осточертел телевизор, расхотелось читать, пропал интерес к путешествиям («чего я там не видел?») и, наконец, к еде. Будучи корпулентного телосложения, Петр заметил в этом определенные плюсы. Впрочем, совсем не есть оказалось скучно. Что ни говори, а завтраки, обеды и ужины расцвечивают жизнь. Но радоваться жизни ему надоело тоже.
«Странно, – думал он, – бежит женщина с огромными пакетами, и ей не скучно. Идет празднично одетая пара – гуляют, а может, в театр собрались: слушать жирных примадонн и примадонов, эстеты! В кино – смешно! В музей, ради господа!» Он уже ходил в Третьяковку год назад. Работа наскучила, но без денег еще скучнее, вот в чем загвоздка.
Чем обычно жив человек? Простыми человеческими радостями, а его не вставляют простые, и радоваться им он не умеет. А ведь хотел, и даже пытался найти источник веселья, потому что везде искал первичное.
Петр прочитал, что за эмоции у человека отвечают нейромедиаторы. Те, в свою очередь, зависят от гормонов, а гормонами управляет ДНК. За удовольствие, оказалось, отвечает дофамин, в полном соответствии с ДНК человека. Причем, короткие ДНК дарят радости на все вкусы, по поводу и без повода: чашка кофе, круассан, стейк, хорошая погода и даже противный дождь веселит, а если ДНК длинная, да еще и перекрученная, то мало чего дождешься. Только события из ряда вон выходящие способны порадовать хозяина: на уровне открытия Америки или теории относительности, геростратова пожара или акта уникального зла. Поэтому все самые великие и самые гнусные люди носят в себя длинную хромосому. Петр понял, что и он – тоже.
Но так как плохим он не увлекался и ничего великого не совершил, оказался Петя вовсе без веселья. Совсем без радости жить невозможно, поэтому одно время он серьезно задумывался о клубах самоубийц. Уж очень заманчиво звучало откровение мистера Мальтуса из одноименного рассказа Стивенсона: «А я вам скажу, что любовь отнюдь не самая сильная из страстей. Страх – вот сильнейшая страсть человека. Играйте страхом, если вы хотите испытать острейшее наслаждение в жизни».
Петр хотел, но игра со смертью казалась ему слишком токсичной, и он не доверял отечественным организациям. Пристукнуть пристукнут, но без всякого наслаждения.
Впрочем, положа руку на сердце, радость в его жизни еще случалась. Упоительная алкогольная радость, идущая от запотевшей рюмки водки с пивком на прицепе. Граппу, массандровский портвейн и португальский руби, херес, кальвадос, текилу с лимоном и солью он перепробовал, но самое приятное опьянение наступало от «Джека Дэниэлса», ароматного и крепкого бурбона, нежного кентуккийского виски.
Пятница!
Уже с полудня он посматривал на часы, каждый раз удивляясь неторопливому течению времени. Внутри разгорался жгучий огонек нирваны, помогая продержаться до конца рабочего дня. Петр растягивал дорогу в ресторан, неспешно смакуя баночку пива. Не дома, а именно в ресторане, где в полумраке, как новогодняя елка, светилась стойка бара, уютно заставленная бутылочными украшениями, возвращался интерес к жизни и легкость бытия.
Петя знал цену этому недолгому и нелегкому счастью. В субботу, конечно, он выпьет еще, но это не радость, это лечение, и что уж говорить про воскресенье, день печали и скорби пред убойным понедельником! Случались периоды и продолжительней выходных.
Он понимал, за что страдает? и даже придумал «теорию героического запоя»: «Запой – зло, но он служит лекарством для сильных, волевых и крепких духом людей».
Широко распространена ошибка считать запойного человека алкашом. У алкашей вся жизнь – запой, поэтому запоями они страдать физически не могут. Голова у них по утрам не болит, похмельный синдром не мучает, стакан портвейна, как кружка парного молока, обеспечивает гладкость жизни до самого вечера. Жизненные проблемы настоящего алкаша уже в прошлом: как у матерого уркагана, у него нет семьи, «закон не позволяет». Кошмары алкаша быстротечны и поверхностны, организм со временем привязывается к своему хозяину и перестает ему мстить. Жизнь коротка, но беспечна, как у элоев.
А для настоящих людей запой – совсем другое. Мы (настоящие люди) – герои! Постоянно болеем, но боремся, побеждаем себя еженедельно, или даже ежедневно, за цвет жизни платим страшную цену, но нам так лучше, так интереснее. Нас мучают кошмары, мы смеемся в их волосатые хари; раскалывается голова – мы только хмурим бровь сурово. Мы едем на работу мертвые, но пашем и воскрешаемся вновь, чтобы умереть.
Мы – осирисы водки, иисусы портвейна. Мы злы, как морлоки, но яростно куем свое нелегкое счастье в подземельях запоев и не приемлем судьбы иной.
Такая жизненная модель просуществовала довольно долго, но обанкротилась компания, в которой Петя работал лет пятнадцать. К несчастью, он оказался одним из крайних, подписавших «неправильный» договор.
Тогда он понял: хоть радости служба не доставляла, зато приносила покой. «Дай счастья мне, а значит, дай покоя». На него навалился небывалый стресс, с паническими атаками, тахикардией, бессонницей. Стало уже не так скучно, но очень, очень плохо. Алкогольный героизм вырождался во что-то совсем иное, похожее на мармеладовскую одиссею, и напрочь пропал аппетит. Он знал за собой такую особенность: страх совершенно убивал тягу к еде, впрочем, как и все тяги на свете.