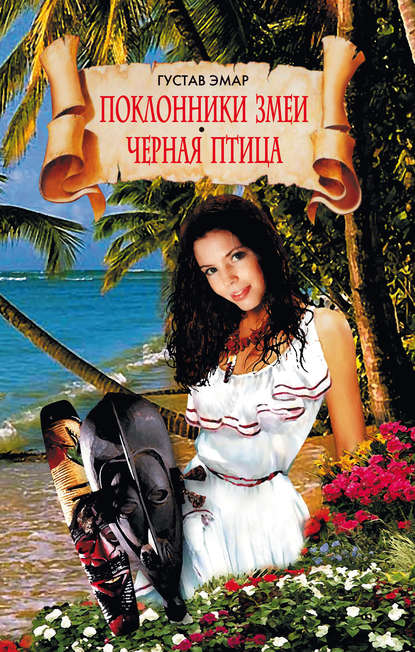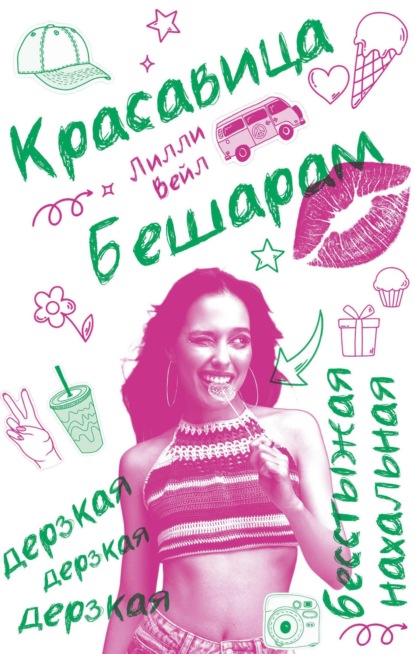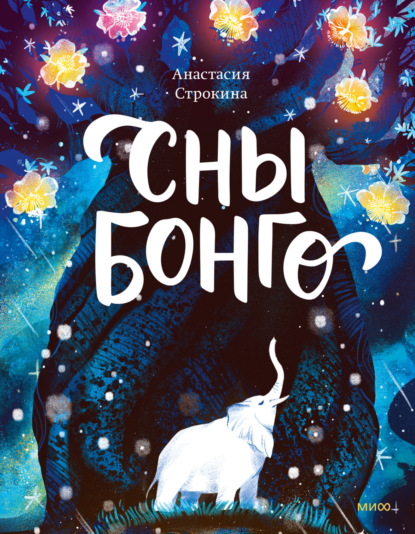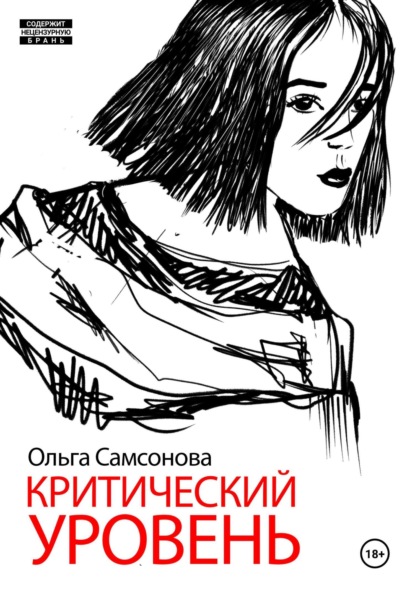Александр и Екатерина. Путешествие в собственное прошлое
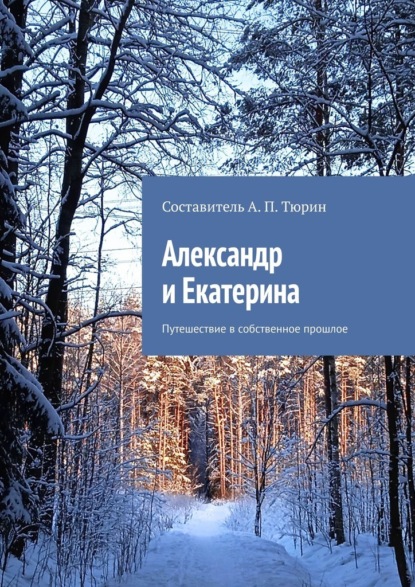
- -
- 100%
- +

Редактор-составитель А. П. Тюрин
ISBN 978-5-0068-5565-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Александр Владимирович, Екатерина Петровна и Александр Петрович Тюрины. 1972 год
Предисловие от составителя
Александр Владимирович Тюрин (1882—1979) и Екатерина Петровна Тюрина (в девичестве Воскресенская) (1890—1980) – мои родные дедушка и бабушка, которым я бесконечно благодарен за любовь и участие в моем воспитании, как человека и гражданина.
В пору моей юности Александр Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, выдающийся ученый-лесовод, несмотря на преклонный возраст, продолжал до конца жизни работать за письменным столом, сохранил тесные контакты с коллегами и многочисленными учениками, теплоту общения с сыновьями и внуками.
Екатерина Петровна, супруга и верный помощник Александра Владимировича – лесничего Брянского опытного лесничества, после замужества не смогла завершить обучение на Лесгафтских курсах в Петербурге и получить высшее педагогическое образование. Всю свою любовь, энергию и педагогический опыт Екатерина Петровна подарила своим детям и нам, внукам.
Воспоминания Александра Владимировича и Екатерины Петровны – это история любви двух незаурядных молодых людей, рассказанные поочередно ими самими. Александр и Екатерина смогли, несмотря на множество препятствий и расстояний, сохранить верность друг другу в бурное предреволюционное время на пороге ХХ века.
С полным изданием мемуаров Александра Владимировича читатели могут познакомиться в книге «Воспоминания ученого-лесовода Александра Владимировича Тюрина. – [б. м.]: Издательские решения, 2021. – 340 с.».
ВОСПОМИНАНИЯ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ТЮРИНА
Юношеская клятва Александра
В 1901 году (мне было 18 лет) в городской библиотеке мне попался один из номеров «Журнала для всех», популярного издания того времени, редактируемого В. А. Поссе. Я всегда охотно читал его. В журнале печатались талантливые вещи. Один рассказ, прочитанный мной на этот раз, произвел на меня сильное впечатление. В нем повествовалось об одной супружеской паре. Молодые люди, муж и жена, недавно поженившиеся, ехали на пароходе по Волге. Пароход шел мимо нагорного берега между Казанью и Васильсурском. Была ночь. На правом высоком берегу были видны усадьбы и дачи. Молодые люди сидели на палубе. Вид одной из усадьб напомнил молодому человеку, что в этой усадьбе он прожил одно лето, репетируя одну девушку, гимназистку. Вспомнив это, муж рассказал своей жене о серьезном романе, который он имел со своей ученицей. Рассказав об этом без огорчения, как бы хвалясь своим успехом, муж вслед за тем отправился в свою каюту, не заметив сильного волнения, в котором находилась его жена. Жена не пошла за мужем, а осталась сидеть одна на палубе. Рассказ мужа глубоко задел ее сердце. «Так я у него не первая!» – горестно сказала она и вдруг почувствовала, что счастье, которым она жила, поблекло. В этом счастье уже не стало очарования. Когда муж вернулся, обеспокоенный долгим отсутствием жены, он застал ее на палубе, на том же самом месте, тихо рыдавшей. Сейчас я даже не помню ни заглавия рассказа, ни его автора. Но рассказ почему-то произвел на меня сильное впечатление. Я много читал и из прочитанного вынес возвышенное представление о женщине. Может быть, поэтому горе молодой женщины, описанное в рассказе, так близко задело мое сердце, еще не испытавшее увлечений. Вскоре я поехал обратно в Богородицк на пароходе. Я проезжал мимо тех же берегов, которые были описаны в рассказе, и тоже ночью. Я сидел один на верхней палубе. Когда на правом берегу показалась усадьба, похожая на описанную в рассказе, я испытал неизъяснимое чувство печали за бедную обманутую в своих мечтах молодую женщину. Она стала мне вдруг близкой, как будто бы была моей невестой. Тогда в сильном волнении, я сказал самому себе почти вслух: «Я никогда так не сделаю; приду к своей невесте таким же чистым, какой будет и она!» После этого я успокоился.
С той поры юношеская клятва, которую я дал самому себе, прочно срослась со мной.
Годы учебы
Я родился в многодетной семье Владимира Ивановича Тюрина от второго брака с Анастасией Владимировной, урожденной Колесниковой. В первом браке у Владимира Ивановича было четыре дочери и три сына. К сожалению, дети рано умерли, а супруга умерла при последних родах. Во втором браке родилось восемь детей, из них выжило шесть: Пелагея, Александр, Пантелеймон, Леонид, Иван и Петр. Сестра моя Пелагея Владимировна и я были старшими из детей. Следующая пара братья Пантелеймон и Леонид Владимировичи. Младшими из детей были Иван Владимирович, впоследствии, академик АН СССР и Петр Владимирович, впоследствии доктор биологических наук, профессор. Пантелеймон и Леонид Владимировичи получили лишь начальное образование. На них в тяжелой форме сказался пережитый нашей семьей хозяйственный кризис.
Владимир Иванович занимался мелкой торговлей и земледелием, арендовав у помещиков Брудинских усадьбу Нижний Тимерган с 240 га земли, недалеко от города Мензелинск Уфимской губернии. Ему было около тридцати лет, когда он арендовал поместье, прожив на этой земле и ведя на ней хозяйство в течении тридцати пяти лет. В конце 90-х годов отец совершенно разорился и прожил остаток жизни в Мензелинске, приписавшись к мещанскому сословию.
Моя мать, Анастасия Владимировна с детства занималась сельским хозяйством, но, тем не менее, была типичная горожанка и любила свой родной город Мензелинск. Нелегко дался ей переезд из города в деревню. Большое хозяйство в Нижнем Тимергане требовал разносторонних усилий, и мать сильно уставала, занимаясь хозяйством целый день. Она первая в семье почувствовала надвигающийся кризис хозяйства. Аренду нужно было бросить добровольно в конце 80-х или в начале 90-х годов. Тогда можно было избежать катастрофы.
Я уехал из родного дома еще до переселения в Мензелинск, когда мне было только пятнадцать лет, и больше в семью не возвращался, лишь изредка заезжал погостить. Бывая у матери в такие приезды, я чувствовал, что она, после переселения в город, душевно успокоилась. Ее утешало сознание, что при всех трудностях жизни, она и ее дети имеют свой угол, хотя и очень скромный, что она живет среди близких ей людей в своем родном городе. Она прожила в своем домике до самой кончины в 1933 году.
Годы моего обучения в Мензелинске прошли в доме моего дедушки Василия Филипповича Колесникова, отца моей матери. Василий Филиппович родился в 1836 году. Он был моложе моего отца всего на четыре года.
Мой прадед – Филипп Викторович Колесников, отец моего дедушки был конногвардейцем, участником Отечественной войны 1812—1815 годов, дойдя до Парижа. Награжден двумя Георгиевскими крестами III и IV степени. Прослужив в армии двадцать пять лет, он вернулся в Мензелинск искалеченным ветераном. Здесь он женился и имел единственного сына, моего дедушку. Умер он в 1848 году от холеры, когда его сыну было 12 лет.
По законам того времени, мой дедушка, как сын солдата, тоже должен был идти в солдаты на правах кантониста, но, очевидно, как единственный сын вдовы был оставлен при матери. По окончании уездного училища он начал службу помощником волостного писаря, потом служил волостным писарем, а на склоне лет перешел на службу в городскую управу Мензелинска.

Семья Василия Филипповича и Варвары Павловны Колесниковых (в центре). В заднем ряду Александр Владимирович и Иван Владимирович Тюрины (третий и четвертый слева). В среднем ряду слева Анна Трофимовна и ее супруг Владимир Васильевич Колесников (прадед А. П. Тюрина). В переднем ряду второй слева Сергей Владимирович Колесников (дедушка А. П. Тюрина по материнской линии). 1909 год
До глубокой старости дедушка занимался самообразованием, читал газеты и журналы, хорошо знал русскую литературу, обладал громадной и четкой памятью, широким и проницательным умом. С ним можно было беседовать на разнообразные темы и чувствовать приятность от общения с умным и образованным собеседником. Дедушка всегда был деятелен, аккуратен и дисциплинирован в труде и отдыхе. На меня, внука, дисциплинированность дедушки имела огромное воспитательное значение. Я, в полной мере, считаю себя его воспитанником, учеником, затем другом и близким товарищем.
В августе 1890 года дедушка отвел меня в приходскую школу, в которой я проучился год. Осенью 1891 года меня зачислили в городское училище, где я и пробыл шесть лет до его окончания в 1897 году. Городское училище в Мензелинске находилось в просторном, светлом каменном здании, имело хорошие кабинеты по физике, естествоведению и располагало значительной библиотекой классиков литературы.
После окончания училища я хотел учиться дальше. Технические училища мне не нравились, и я остановил свой выбор на Казанском земледельческом училище, чтобы потом поступить в Петербургский лесной институт. Мои давнишние склонности к природе, лесу были в это время подкреплены замечательной для своего времени книгой профессора Петербургского лесного института Кайгородова «Беседы о русском лесе».
Весной 1897 года наш курс завершил обучение в городском училище. Лучшие ученики награждались похвальными листами и ценными книгами. Я был награжден собранием стихотворений А. К. Толстого в двух томах. Эти книги и похвальная грамота сохранились в моей библиотеке до сих пор.
С моим аттестатом приключилось некоторое недоразумение. Для получения аттестата требовалось представление метрической выписки о рождении, в которой по ошибки я был записан Иоаном. Для исправления метрической записи в уфимской духовной консистории потребовался год.
Летом 1898 года стало известно, что организовано новое среднее сельскохозяйственное училище в городе Богородицке Тульской губернии. Окончившие курс сельскохозяйственного училища получали звание агронома. Получив аттестат об окончании городского училища, я написал прошение на имя директора училища и направил необходимые документы в Богородицк.
При шести классах обучения в училище общее количество учеников составляло 240 человек, из них 200 жило в пансионе. Пансионер за 150 руб. в год имел белье, постель, верхнее платье и стол. Я провел в пансионе все шесть лет. Со второго года обучения я имел казенную стипендию за отличные успехи, которая полностью меня обеспечивала. В пансионе для нас был установлен строгий распорядок дня. Порядок обеспечивался постоянным присутствием особых надзирателей. В город отпускали только по разрешительным запискам.
Оглядываясь на прошлую пансионскую жизнь, я прихожу к выводу, что, хотя она протекала в здоровых условиях, но была чрезвычайно однообразна внешними впечатлениями. Поэтому мы росли дичками, в полудеревенской оторванности от культурных развлечений, предрасположенные к замкнутости и к самоуглубленной отрешенности. Светскость, общительность, легкость во взаимоотношениях с людьми нам пришлось приобретать уже потом, когда мы вышли из пансиона.
Учебные занятия в последнем шестом классе были для меня очень трудными, так как летом 1903 года я заболел нервной переутомленностью. Мое настроение было вялым, интересы потускнели. Я выполнял учебные задания, как и раньше, но без подъема, огня, которые были для меня характерны раньше. Любопытно, что в этот год меня потянуло к Достоевскому, и я читал с наибольшим интересом его роман «Братья Карамазовы». В это же время я прочитал романы и драмы Горького: «Фома Гордеев», «Трое», «Мещане».
Тяжелые раздумья 1903 года были усилены внезапно начавшейся войной с Японией (в конце 1904 года). Наши неудачи, неподготовленность к войне, нежелание народных масс вести войну, повсеместный общественный разлад – все это сулило печальный результат столкновения с неизвестной нам до сих пор страной и задевало национальные чувства.
Весной 1904 года я с отличием окончил Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище и отправил в Петербургский лесной институт документы с заявлением о приеме меня в число студентов.
Вернувшись в Мензелинск, я решил серьезно заняться лечением своей болезни, и воспользовавшись тем, что начался покос, уехал с братом Пантелеймоном в дальние луга за рекой Иком, недели на две. Там в физическом труде, постоянно на свежем воздухе, понемногу стал приходить в себя.
В середине августа 1904 года пришло извещение из института, что я принят по конкурсу аттестатов без экзаменов в Петербургский лесной институт. Мое болезненное состояние, хотя и ослабло, но все еще продолжало давать о себе знать. Поэтому, я ехал в Петербург без большого подъема.
1904 год. Приезд в Петербург
В августе 1904 года рано утром я подъезжал к окрестностям Петербурга. Сырая, местами болотистая, равнина расстилалась по обе стороны от железной дороги. Кое-где по более сухим местам виднелись пни от вырубленных рощ. Печать заброшенности была во всем. Я привык к тщательному использованию земли в Тульской губернии и в Прикамском крае, а здесь она лежала втуне. Впечатление было безотрадное. Наконец, показался синий дым, клубами застилающий небо. Под клубами дыма виднелись тонкие кирпичные трубы заводов, еще ниже чернели массы закопченных домов. Вот и вокзал. Сутолока пассажиров. Сырой прохладный воздух. У меня вещей было мало: небольшая корзинка и свернутая ремнями постель. Выхожу из вокзала. Серый день и серая площадь с массой людей. Спрашиваю, как доехать до Лесного. Мне говорят, что надо пройти Невским проспектом до Литейного, а там сесть на конку и ехать до клиники Виллие. Иду пешком через площадь. Вот и Невский. Вдали вижу в сером небе высокую иглу. Вспоминаю по картинам, что это, очевидно, адмиралтейство. Много людей, быстро идущих, почти бегущих. Они задевают мою корзинку. Они мне мешают, и я им мешаю. Бегущие и идущие не обращают внимания друг на друга. Они чужие друг другу и, пожалуй, враги, так как мешают бежать, путаются под ногами.
Вижу надпись: Литейный проспект. Стою и поджидаю конку. С конкой я уже знаком по Москве и Нижнему Новгороду. Сажусь наверх, на империал. Мне хочется вздохнуть полной грудью и посмотреть сверху на улицу и дома. Действительно, сверху видно все. Я свободно дышу сыроватым прохладным воздухом и оглядываюсь по сторонам. Едем медленно. Это и лучше. У меня есть время, чтобы составить план дальнейших действий. Въезжаем на мост через Неву. Я сравниваю ее с Камой и прихожу к выводу, что она уже Камы, но производит мощное впечатление своей полноводностью. С моста вижу слева знакомую мне иглу адмиралтейства и вторую иглу на правом берегу реки. Вспоминаю картины Петербурга и узнаю, что это Петропавловская крепость. Вдали по Неве в дымке видны мосты, дворцы, мачты кораблей. Я начинаю восторгаться, очень красиво. Вот и клиника Виллие. Слезаю с конки и снова спрашиваю, как проехать до Лесного. «А вот, паровичок!» – садитесь и будете в Лесном. Сажусь в один из вагонов, прицепленных к паровичку. Едем с большим шумом, с остановками на разъездах. Чувствую, что едем окраиной города. Направо и налево капустные огороды. Оказывается, это Сампсониевский проспект. Пересекаем железнодорожное полотно. Спрашиваю куда ведет эта дорога? Мне отвечают, что это финляндская железная дорога. Достигаем некоторого небольшого подъема и, поднявшись, круто поворачиваем направо у какой-то церкви. «Это Новосильцевская улица. Вам здесь выходить», – подсказывают мне. Вот и парк Лесного института. Я послушался совета и выхожу. Направо от меня зеленый, густой парк, хорошо огороженный. Впереди вижу вход для пешеходов и прямо от него длинную сосновую аллею. Серое небо в этот момент раскрылось и пропустило теплые, светлые лучи августовского солнца. Аллея вся засветилась. Что-то светлое поднялось у меня в груди. Встали в памяти прежние увлечения лесом. Я вспомнил книжку профессора Кайгородова «Краснолесье». Передо мной в парке стоял настоящий красный лес. Итак, я в парке Лесного института. Я воодушевленно пошел по солнечной сосновой аллеи. Положительно мне здесь все нравилось. У меня стали расправляться крылья. Я шел к зданию Лесного института, но нашел его не сразу. Белое длинное здание среди деревьев, и роскошный цветник перед ним. «Как это красиво!» – подумал я. Парадная дверь была открыта. У дверей стоял швейцар в форме. Несколько молодых студентов стояло в вестибюле.
– Вы в институт? – спросил швейцар.
– Да, – ответил я.
– Пожалуйте, канцелярия уже открыта. Вещи можно оставить. Здесь можно раздеться.
И я вошел в институт.
Лесной институт
Петербургский Лесной институт в описываемую эпоху был первоклассным высшем учебным заведением. Институт был основан в 1803 году и за год до моего поступления в него отпраздновал свой столетний юбилей. Он имел четырехлетний курс обучения и готовил ученых лесоводов. В то время институт не разделялся по специальностям. Ученые лесоводы получали в нем энциклопедическое образование. В институте имелись общие кафедры: ботаники с анатомией и физиологией растений, зоологией с маммалиологией, орнитологией и энтомологией, физики и метеорологии, химии неорганической, органической и аналитической, математики и механики, минералогии с геологией, политической экономии, почвоведения – специальные кафедры: общего лесоустройства, частного лесоводства, лесоустройства и лесной таксации, лесной технологии, инженерного дела, геодезии. В описываемое время в институте работали выдающиеся ученые: профессор и академик Иван Парфеньевич Бородин, автор учебников по ботанике и анатомии растений; профессор Геннадий Андреевич Любославский, автор учебника по метеорологии; профессор Аркадий Семенович Домогаров, выдающийся математик Петербурга, автор литографированных учебников по аналитической геометрии и анализу бесконечно малых величин; Петр Самсонович Косович, автор литографированного, а затем напечатанного в типографии учебника по почвоведению; профессор Леонид Владимирович Ходский, автор широко известного в то время учебника по политической экономии в связи с финансами; профессор Георгий Федорович Морозов, находившийся в то время в расцвете своей научной деятельности, позднее издавший свою учебную книгу по лесоводству; профессор Михаил Михайлович Орлов, автор учебников по лесной таксации и лесоустройству, председатель специального лесного комитета в министерстве земледелия; Илиодор Иванович Померанцев руководитель военно-топографического отдела генерального штаба. При кафедрах имелись хорошо оборудованные кабинеты и лаборатории. Особенно выделялись в то время кабинеты при кафедре зоологии, ботаники, физике, геодезии и лаборатории при кафедре почвоведения и химии.
Парк при институте, имевший площадь свыше 50 гектар, представлял учебно-воспитательное учреждение по дендрологии. В нем были собраны древесные и кустарниковые породы умеренной и северной зон. Деревья и кустарники, в некоторых случаях и целые рощи отдельных пород, были снабжены этикетками, что облегчало их изучение.
Красиво проведенные дороги и дорожки сообщали парку нарядный и уютный вид. В парке были оранжереи и цветники. Наибольший из них находился перед учебным корпусом института. Учебный корпус был построен в 30-х годах ХIХ века. При 600 студентах (в мое время численность студентов была около этой цифры) учебный корпус не был тесен, и мы размещались в аудиториях и кабинетах довольно свободно. Корус был построен с внутренним двором и представлял собой своеобразный замок. На первом этаже заднего фасада (задний фасад был четырехэтажный; остальные три стороны имели по два этажа) помещалась кухня и столовая. Столовая Лесного института пользовалась среди студенческого мира Петербурга славой лучшей столовой. Она управлялась особой выборной студенческой комиссией, получала дотацию от общества вспомоществования студентам Лесного института, и так умело была организована, что имела возможность давать вкусные, питательные и дешевые обеды. В остальных этажах заднего фасада некоторое время (в 1906—1907 годах) было студенческое общежитие. Ранее этого срока и после него общежитий при мне не было, и студенты селились в пригороде Лесное.
При институте была церковь, занимавшая третий (неполны) этаж переднего фасада здания. Настоятель церкви протоирей Альбов был в то же время профессором богословия. Считалось обязательным венчаться в своей церкви. Профессор Альбов был добрый и мягкий старик. Он довольствовался при церемонии венчания минимум формальностей, что привлекало к нему брачующихся.
Для летних практических занятий по лесоводческим наукам институт располагал двумя лесничествами. Одно из них, около 1000 гектар, находилось на охтинской стороне Петербурга и называлось Охтинским. Другое, весьма значительное по площади (свыше 10 000 гектар), находилось километрах в 70 от Петербурга, вблизи стации Лисино, и называлось Лисинским. Ежегодно туда выезжали студенты на длительное время.
Пригород Лесное, находившийся к северу от институтского парка, насчитывал в мое время около пятидесяти тысяч жителей. Каменных домов, за редкими исключениями, здесь не было. Повсюду были деревянные домики, прятавшиеся среди деревьев сосны и ели, сохранившиеся от бывшего когда-то естественно возникшего хвойного леса. Домики были ветхие. В них всегда пахло сыростью и тлением. Они были не благоустроены и мало пригодны для жизни зимой. В этих дачных домиках и жили студенты Лесного института. Для преподавательского состава имелись казенные, весьма благоустроенные здания, расположенные в парке лесного института. Небольшая институтская больница тоже находилась в парке. При больнице жили врач и фельдшер. В парке также помещалась студенческая и преподавательская баня. Баня была великолепна, и ею институт гордился по праву. В пригороде Лесное имелись магазины, которые обслуживали студентов и местное дачное население. Связь с городом поддерживалась при помощи паровичка и конки. Вследствие медлительности передвижения, путь в город (в один конец) требовал не менее полутора часов. Поэтому Лесной институт был изолирован от центра города.
Первое устроение
В пригороде Лесное большие улицы, хотя и не мощеными, назывались проспектами, как в Петербурге. Устроив свои дела в канцелярии и оставив вещи на хранение у швейцара института, я отправился искать себе комнату на одном из проспектов. Очень скоро я нашел комнату с услугами за 7 руб. в месяц. Она была в деревянном доме, на втором этаже, на 2-ом Муринском проспекте. В комнате было два окна и печка. Мебель была проста: кровать, стол и несколько стульев. Электричества в то время в Лесном не было, и вечером подавалась керосиновая лампа. Под окнами стояли рябины с красными ягодами. Рябина была любимым плодовым деревом в Лесном и украшала все сады и палисадники. От дома, в котором я стал жить, веяло сыростью и тем особым запахом тления, который я впервые почувствовал именно в старых домах Лесного. Утром и вечером, а по просьбе и в обед, мне подавался самоварчик и чайный прибор. В то время как я приехал, студенческая столовая еще не была открыта, и я питался, по необходимости, весьма скудно: чай с хлебом утром, в обед и на ужин. Других столовых в Лесном не было, кроме харчевен, весьма неопрятных и непривлекательных. Первые дни были для меня чрезвычайно тягостны. У меня еще не было знакомых. Через несколько дней приехали мои товарищи по Богородицкому сельскохозяйственному училищу: И. И. Борисов, С. М. Филатов, братья И.Д. и В. Д. Дмитриевы. Таким образом, у нас образовалась компания из пяти человек. Но жили мы в разных местах и лишь время от времени заходили друг к другу. Так как до начала занятий еще было несколько дней (занятия начинались 1 сентября по старому стилю), то мы использовали их для знакомства с Петербургом. Помню, что это знакомство сопровождалось страшной усталостью и почти постоянным чувством голода. Питались мы недостаточно, так как нам казалось, что мы и без того разоряемся на еду. Настолько все было не по нашим средствам. Незадолго перед началом занятий ко мне заглянул наш бывший учитель Иван Иванович Баранов, вернувшийся с последней лесной практики (он заканчивал институт экстерном). Он познакомил меня и моих друзей с несколькими своими товарищами, учившихся на третьем и четвертом курсах. Среди них был студент С. В. Котовский, уже женатый, занимавший хорошую семейную квартиру на Институтском проспекте. Я довольно часто заходил к нему. Семейная обстановка давала мне ощущение уюта, которого не было в моей сыроватой неприветливой комнате. С появлением Баранова нам стало теплее, спокойнее. Мы уже не чувствовали себя одинокими и заброшенными, но он скоро уехал, и мы больше с ним не виделись. В самом конце августа открылась, наконец, наша студенческая столовая. Она и в самом деле была замечательной. Готовили в ней вкусно, руководили ею старые опытные студенты, выбранные на студенческой сходке. Председателем столовой комиссии был Иван Сергеевич Сухоруких, замечательный хозяин и организатор. В столовой были следующие цены: тарелка супа с кусочком мяса 3 коп.; две жареных мясных котлеты с картофельным пюре 11 коп.; отбивная котлета с пюре 18 коп. и далее в том же роде. Обед начинался с 12 часов дня и продолжался до 16 часов. Хлеб подавался на стол в неограниченном количестве. С открытием столовой наше существование сильно укрепилось, и нам стало жить веселее. Расписание лекций и практических занятий было уже объявлено, и мы стали готовиться к занятиям. Все ждали 1 сентября.