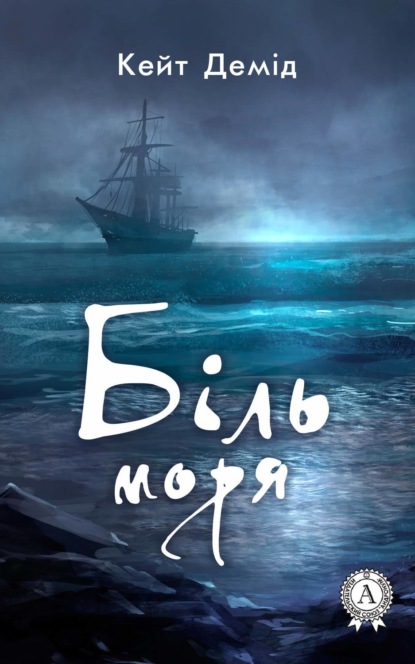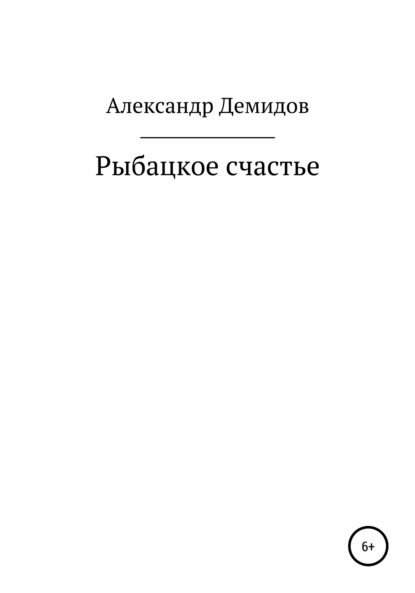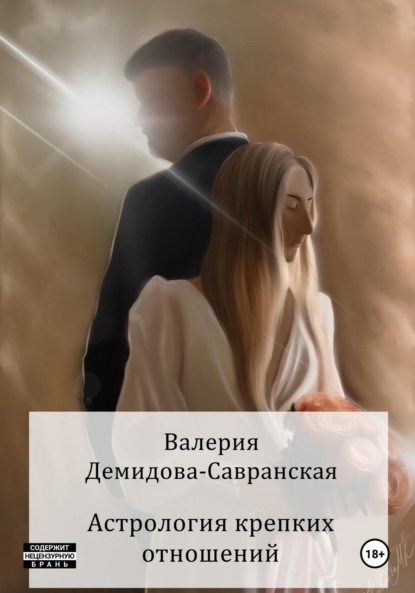Александр и Екатерина. Путешествие в собственное прошлое
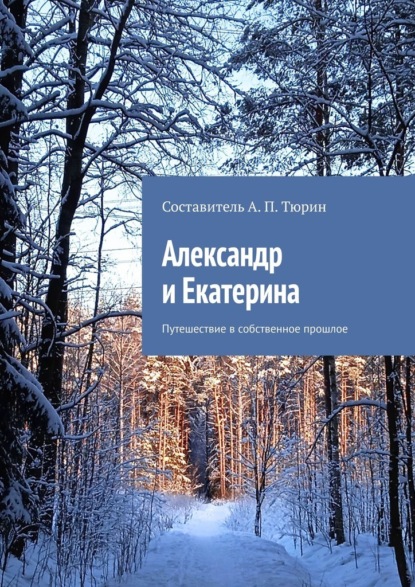
- -
- 100%
- +
Первый семестр
Перед началом занятий учебной части института следовало бы собрать студентов первого курса и рассказать им об институте, о задачах обучения, об учебном плане, о расписании лекций и практических занятий и о том, как лучше выполнять учебные задания. К сожалению, этого не было сделано, и мы первокурсники были предоставлены самим себе. Только этим можно объяснить, что наши занятия с первого же дня пошли не совсем гладко. Отчетливо помню, что долгое время я везде опаздывал. Например, выдают учебники, я узнаю об этом случайно, опаздываю и получаю вследствие этого старые ненужные книги. Переносят почему-то практические занятия, я узнаю об этом случайно и прихожу невпопад и т. д. Мне не хватало времени, и в то же время я ничем вплотную не был занят. Ни одного семестрового курса лекций за осень 1904 года я не мог полностью прослушать. Я с увлечением начал слушать лекции по зоологии профессора Николая Александровича Холодковского, но оказалось, что я по каким-то причинам не мог быть на паре лекций. Нить изложения была прервана, восстановить ее было трудно. В результате такого стечения обстоятельств я перестал ходить и на последующие лекции. А между тем Николай Александрович был выдающимся лектором. Он говорил необычайно просто, как будто вел беседу, а впечатление получалось огромное, и знания усваивались без затруднений. Такая же история как с зоологией, получилась у меня и с физикой, и с математикой. Надо отметить, что в описываемую пору в Лесном институте, как и во всех высших учебных заведениях, слушание лекций было необязательным и не было в почете. Считалось хорошим тоном прослушать несколько лекций каждого профессора, чтобы иметь о нем представление, но систематического посещения лекций не практиковалось. На лекции ходили, примерно, четвертая или третья часть студентов. Причем сегодня это были одни студенты, а завтра частично другие. Читать лекции при меняющимся составе слушателей было, конечно, очень трудно, и надо удивляться лекторам того времени, что они все же читали, и при том многие из них читали прекрасно, как по форме, так и по содержанию. Влияние старших студентов на первокурсников в плане расхолаживания их к посещению лекций было несомненным, и я сам это испытал. Но помимо такого расхолаживающего влияния, у меня обнаружилась бесспорное неумение правильно распределить свое время и свои занятия. Моя неумелость удивляла и беспокоила меня, так как в средней школе я отличался большим умением эффективно располагать своим временем. По-видимому, на моих занятиях сказывалось остаточное действие моего нервного заболевания, которое в острой форме я перенес в последние годы обучения в средней школе. Мои товарищи из Богородицкого училища были более удачливы в проведении занятий первого семестра. По крайней мере, мне так казалось. Это наблюдение особенно меня огорчало. По вечерам я был занят проработкой учебного материала, главным образом по аналитической геометрии и анализу бесконечно малых величин. Я решал много задач, и на это уходило мое вечернее время. Помню также, что в первом семестре я не был ни одного раза в театре, осмотрел лишь несколько музеев и один раз съездил посмотреть Кронштадт. Все остальное время сидел над учебниками. Не помню, чтобы я прочитал за это время что-нибудь значительное, хотя у нас в институте была хорошая студенческая библиотека, созданная на средства студентов путем ежедневного копеечного налога на каждого обедающего в студенческой столовой. Словом, первые месяцы первого семестра прошли у меня неорганизованно и мало продуктивно. К тому же деньги иссякли, и мне приходилось думать о заработке, который не легко было найти.

Александр Владимирович Тюрин – студент Петербургского лесного института
Меж тем политическая обстановка усложнялась. Среди студентов Петербурга шло глухое брожение. Оно нашло отражение и в Лесном институте. Первая студенческая сходка была у нас в сентябре. Хотя она была созвана для разрешения некоторых организационных вопросов (выбор различных комиссий, обслуживающих студентов), но в речах выступавших товарищей второго и третьего курса были такие выражения и высказывались такие мысли, что они явно свидетельствовали о сильном политическом возбуждении студенческой молодежи. В октябре в одной из больниц Выборгской стороны умер студент какого-то института. Было сделано объявление (оно висело и у нас в Лесном институте), извещавшее, что на такое-то число назначаются похороны и что приглашаются товарищи проводить тело покойного на кладбище. Собралась большая толпа провожающих, в том числе и я. Похоронная процессия превратилась в политическую демонстрацию, которая потому лишь не была разогнана полицией, что проходила на окраине Петербурга.
В начале ноября 1904 года была организована уже настоящая политическая демонстрация на Невском проспекте. Она была разогнана полицией и казаками. В конце ноября был прощальный праздник в Технологическом институте. У меня в Технологическом институте был знакомый студент П. В. Тименцев. По его приглашению я поехал на праздник. Со мной были мои товарищи И. И. Борисов и братья И.Д. и В. Д. Дмитриевы. Праздник, собравший в стены Технологического института несколько тысяч человек, превратился в митинг. Мне впервые пришлось видеть такой митинг. На нем выступали политические деятели того времени. Мне запомнились выступления присяжного поверенного Волкенштейна и публициста Пешехонова. Возбуждение на митинге было необычным, но полиция не беспокоила нас. Характерно, что никто из выступавших не касался войны, меж тем в это время на полях Манчжурии шли бои. Получалось впечатление, что войну вела не Россия, а какая-то другая держава.
Мы вернулись с митинга рано утром пешком, и были страшно утомлены. Нам становилось ясно, что спокойного изучения наук в институте не будет. События нарастали. Этого нельзя было видеть даже неискушенным в политике людям.
Деньги мои, остаток прежних накоплений, пришли к концу. Нужно было искать заработка во что бы то ни стало. В это время С. В. Котовский, мой знакомый студент старшего курса, сказал мне, что есть работа на один месяц в отъезд, в село Ивановское, километров в 30 от Петербурга. Требовалось произвести наблюдения над образованием донного льда на Неве. Я согласился, ознакомился по нескольким рукописям, которые мне доставил С. В. Котовский, и сущностью вопроса, получил короткие инструкции (предложение исходило от одного инженера путей сообщения) и поехал я в село Ивановское. Это было в самых последних числах ноября 1904 года. Никакого разрешения на выезд со стороны института не требовалось, но я пропускал не только лекции, но и практические занятия. Конечно, это было печально, но иного выхода у меня в то время не было.
Поездка в село Ивановское на Неве
Село Ивановское находится в том месте, где Нева делает большую дугу и меняет свое первоначальное юго-западное направление на северо-западное. В этом месте в Неву впадает слева река Тосна. Иванковское лежит у самого устья реки Тосны на правом ее берегу. На левом берегу реки Тосны у самого ее устья находится поселок Тосно.
Несколько выше села Ивановского против мызы Пелла на Неве имеются пороги. Здесь река суживается до 200 метров и несется со скоростью 15 километров в час. Против села Ивановского, что тоже против устья реки Тосны, Нева имеет ширину несколько более километра. Здесь после порогов течение тихое, а вдоль левого берега имеется даже характер заводи. Уже давно было замечено, что ниже порогов на Неве зимой под верхним льдом образуется огромное количество донного льда.
Образование донного льда происходит около каких-либо препятствий: свай, мостовых быков и т. д. Временами донный лед накапливается в таких количествах, что стесняет движение воды, и последняя выступает над верхним льдом, образуя наводнение. Моя обязанность заключалась в том, чтобы выяснить процесс и причины образования донного льда. Я привез с собой термометры для измерения температуры воздуха и воды и горячий интерес к проблеме. Поселившись в одном новым домике (в мезонине) и устроившись с питанием, я принялся за дело. Мои наблюдения производились утром, в полдень и вечером, а размышлял я по поводу наблюдений все время.
Сделав проруби на льду на Неве, в Ивановской заводи, и на реке Тосне, опуская веревку с грузом, ветви сосны, я наблюдал в холодные дни и ночи (весь декабрь был тогда холодным) неизменно одну и ту же картину. Предметы, опущенные в невскую воду, покрывались льдинками. Те же предметы, опущенные в проруби на реке Тосна, льдинками не покрывались. Река Тосна не имела порогов и на всем своем протяжении была покрыта льдом. Река Нева выше села Ивановского имела пороги и льдом покрыта не была. В сильные морозы на поверхности быстро несущейся воды в порогах моментально образовывались льдинки. Они неслись дальше. Но так как ниже порогов река была покрыта льдом, льдинки, смешиваясь с водой, поступали под лед и находились там во взвешенном состоянии, пока какое-либо препятствие не останавливало их. Тогда они прилипали к встреченному препятствию. Было ясно, что причина образования донного льда лежит в порогах, в открытой поверхности быстро несущейся воды, образующей льдинки в сильные морозы. Свои наблюдения и размышления я записал и сообщил тому инженеру, по поручению которого я работал. Мои соображения были приняты и позднее напечатаны, впрочем, без ссылки на автора. Но это обстоятельство не опечалило меня, так как я находил интерес в самом исследовании. Из учебных книг я взял с собой только физику и ее штудировал. Мои исследования рассматривались мной, как практические занятия по физике.
Обедал я в местной столовой (харчевне). Там неплохо готовили жареную рыбу. Ее я и спрашивал главным образом. Однажды вечером, в конце декабря, пришло известие, что Порт-Артур сдался. К моему удивлению, это известие не вызвало никаких огорчений у присутствующих. Складывалось впечатление, что Порт-Артур не имел к ним никакого отношения, что на Дальнем Востоке воевала не Россия, а чужая нам страна.
Рождество (25 декабря по старому стилю) я встречал не один. Ко мне приехал мой знакомый П. В. Тименцев со своей женой Клавдией Петровной. Мы скромно провели вечер. Я показал им окрестности села Ивановского. С собой они привезли несколько книжных новинок, которые мы вслух прочитали. На следующий день я проводил их до станции Колпино.
Через несколько дней, в начале января 1905 года, я закончил порученное мне исследование и возвратился в Петербург. За месяц работы я получил 60 руб. В то время это было большая сумма. Я рассчитывал, что этой суммы мне хватит на два с половиной месяца. Примерно так оно и вышло. Поездка в Ивановское была для меня первой самостоятельной экспедицией. Я чувствовал, что с порученной работой справился, и это обстоятельство укрепило мою уверенность в собственных силах.
Начало 1905 года. Семья Григорьевых
Приехав в Лесное, я должен был подумать о комнате. Старую комнату я за собой не оставил, да и не хотел в нее возвращаться. Неожиданно тотчас по приезде я познакомился со студентом третьего курса Александром Николаевичем Григорьевым. Он был семейным человеком и занимал отдельную квартиру из трех комнат. Одна комната была у него свободна, и он предложил ее мне. Я охотно согласился. Он жил на Ланской улице около станции Ланская Финляндской железной дороги, недалеко от Удельного парка. Это было далековато от института, но расстояние не смущало меня. Дом, в котором жил Григорьев, был новый, из сосновых бревен, двухэтажный. Его квартира занимала весь первый этаж. Семья его была небольшая и состояла из жены и маленького сына. Мне сразу понравилось у Григорьевых. Комната была сухая, светлая. Вечерний и утренний чай мы пили вместе в столовой на коммунальных началах. Обедал я в институтской столовой, а Григорьевы готовили домашний обед. Жена Григорьева Александра Абрамовна была приветливой, сердечной и умной женщиной. Она окончила женскую гимназию в Тамбове и года два назад вышла замуж за Григорьева, когда тот был на первом курсе. Сам Александр Николаевич был способным человеком, но без воли и устойчивости в жизни. Несколько позже их семейная жизнь совершенно разладилась, но в описываемое время супруги жили дружно. Отец Григорьева был лесничим Тамбовского лесничества и обеспечивал своего сына.
В моей комнате было немного вещей: кровать, стол и пара стульев. Керосиновая лампа была превосходна и давала возможность хорошо заниматься по вечерам. Когда я поселился у Григорьевых, еще продолжались зимние каникулы. Поэтому к Григорьевым часто заходили их знакомые. Естественно, что они стали и моими знакомыми. Среди них был студент четвертого курса Сергей Алексеевич Богуславский, впоследствии профессор Ленинградского лесного института, переименованного в начале тридцатых годов в Лесотехническую академию. К Александре Абрамовне приезжали также подруги по гимназии, курсистки различных петербургских курсов. Большой компанией мы гуляли иногда по Удельному парку, а вечера проводили в столовой (гостиной Григорьевых). Одна из знакомых Елизавета Петровна Гладилина недурно играла на гитаре, остальные слушали, или подпевали. Иных музыкальных инструментов у нас не было. После скучного первого семестра и уединенной жизни в селе Ивановском я впервые почувствовал разнообразие жизни, стал бывать в театре. В то же время я интенсивно работал над предметами первого семестра. Я предполагал сдать часть зачетов тотчас по окончании зимних каникул. Но как оказалось далее моим намерениям не дано было осуществиться. Второй семестр не открылся. Произошли известные события 9 января 1905 года, институт был закрыт, а студенты были распущены по домам на неопределенное время.
9 января 1905 года. Закрытие института
Числа 4 или 5 января (по старому стилю) 1905 года небольшая часть оставшихся в Лесном студентов Лесного института собралась, чтобы обсудить проект адреса на имя Московского Университета по случаю приближающегося дня 12 января (по старому стилю) 150-летнего его юбилея. Проект обсудили, приняли и послали. Хотя в нашем послании были очень сильные места, революционный смысл которых был несомненен, но дни, когда происходило обсуждение адреса, были в Петербурге довольно спокойными, и ничто не предвещало политической бури.
Седьмого января под вечер я был на Васильевском острове у своих знакомых Тименцовых. Приехав к ним, я сообщил, что по дороге, на Петербургской стороне, видел поразившее меня большие скопления рабочих по переулкам. Я не раз проезжал по этому пути, но таких толп народа не видел. Как выяснилось потом, это были забастовавшие рабочие некоторых заводов и фабрик. Тименцовы, выслушав мой рассказ, сказали: «Очевидно, что-то надвигается. Надо ждать грозы». Я не задержался у них долго и вскоре уехал домой. В воскресенье 9 января я не был в городе, но некоторые мои товарищи поехали туда по своим делам, но дальше мостов через Неву их не пустили. Они были свидетелями атаки казаков на народ около Троицкого моста. Вечером молва о происшедшим расстреле рабочих распространилась уже по всему городу; все знали более или менее о случившемся. Из студентов Лесного института никто не пострадал. Но из соседнего Политехнического института был убит один студент. Он случайно оказался у Александровского сада. Его отпевали (по церковному обряду) в зале Политехнического института. Преподаватель богословия Политехнического института, известный в то время священник Григорий Петров произнес над гробом волнующую речь. Город был встревожен необычайно. Всеми сознавалось, что наступили дни настоящей революции, а не студенческих волнений. Чтобы предупредить дальнейшие события, правительство закрыло все высшие заведения. Нужно отметить, что студенчество Петербурга не имело никакого отношения к событиям 9 января. Оно и не реагировало на события, так как не могло собраться из-за закрытия вузов. Закрытие было сделано на неопределенный срок. В Лесном институте студентов четвертого курса послали в лесничества на длительную практику, а студентам остальных курсов предложено было разъехаться по домам. По этим причинам наша дружеская компания постепенно стала таять. Вскоре уехал на практику Богославский, уехали также подруги Григорьевой. Я несколько задержался, так как мне было неясно, куда ехать. Я подыскивал работу в провинции, но найти в то время работу было крайне трудно. Наконец, случайно подвернулась очень интересная работа от департамента земледелия ехать в Западную Сибирь для работы на консервных заводах. Желающих ехать было много, но, как агроном, я считался более подходящим для такой работы. Получив назначение и деньги на проезд, я в первых числах марта 1905 года выехал в Западную Сибирь до осеннего семестра.
Поездка в Западную Сибирь
Мой путь лежал к Омску на реке Иртыш. Ехал я долго через Москву, Рязань, Самару, Уфу, Челябинск. Северного железнодорожного пути тогда еще не было. По дороге встречались эшелоны войск и грузы военных материалов, шедшие на восток. В конце февраля в Манчжурии нами было проиграно крупнейшее сражение около Мукдена, но война продолжалась. Шла подготовка к дальнейшим усилиям оказать сопротивление японцам. Моя предстоящая работа была одной из тех маленьких работ, которые нужно было провести, чтобы содействовать успеху борьбы с японцами.
Интересной была дорога лишь между Уфой и Челябинском, особенно около города Златоуста. Горы Большой и Малый Таганай, покрытые хвойным лесом, остались у меня в памяти до сих пор. Дорога от Челябинска до Омска была исключительно однообразной и скучной. Я в первый раз увидел беспредельные степи.
Омск считался в то время большим городом. Это был деревянный город без садов и деревьев. Каменные дома в нем встречались редко. Большей частью это были казенные присутственные места. Влияние войны уже сказывалось на Омске. В нем чувствовался тыл. Повсюду встречались военные. Город был так перенаселен, что вновь приезжему трудно было найти себе пристанище. Я остановился в маленькой гостинице, имевшей два или три номера. Маленькая комната стоила 1 руб. 50 коп. в день или 45 руб. в месяц, в пять раз дороже, чем в Петербурге. Обед стоил 75 коп.; на завтрак и ужин уходило столько же. Мне было назначено жалование в размере 100 руб. в месяц. Я подсчитал, что пребывание в Омске едва оплачивалось получаемым жалованием. Мой начальник, ученый агроном, жил в центральной гостинице и платил не менее 5 руб. в сутки за свой номер. Вместе со мной явились в Омск на такую же, как у меня, работу студенты старших курсов Лесного института Александр Михайлович Сергин и Лавр Иванович Яновский. Мы быстро сдружились и решили поселиться вместе, чтобы не разориться окончательно, живя по гостиницам. Но найти комнату было нелегко. После долгих поисков все же мы нашли большую комнату и поселились вместе, недалеко от центра. Но обедать приходилось в столовых. Дома мы лишь завтракали и ужинали. Наши обязанности в Омске были очень просты и заключались в том, что принимали тару для будущей продукции еще не построенного консервного завода. Свободного времени у нас было много, и мы проводили его большей частью или в казачьей войсковой библиотеке, или знакомились с городом и его достопримечательностями. Казачья войсковая библиотека принадлежала Сибирскому казачьему войску и была чрезвычайно богатой. Заведовал ею старик, казачий офицер. Помощниками у него были молодые казаки. Все носили форму Сибирского казачьего войска. В библиотеке была большая читальня. Выписывались газеты и журналы самых разных направлений. В этой читальне мы и проводили свободное время.
Достопримечательностей в городе было немного. На берегу Иртыша сохранилось место, где стоял острог, в котором проводил заключение Ф. М. Достоевский. Ограда острога не сохранилась, но каменные здания, около которых стояли часовые, по-видимому, выполняли в описываемое время те же функции, что и во времена Достоевского. Река была сурова, холодна и вызывала у нас (при посещении этого исторического места) невольное чувство озноба.
Мы провели в Омске весь апрель месяц. Однажды наш начальник сообщил нам, что получено предписание от высшего начальства откомандировать нас на работу в город Петропавловск Омской области. В Петропавловске консервный завод для нужд армии был уже пущен в ход, и нас там ожидала ответственная работа. Мы быстро собрались и выехали из Омска в Петропавловск. Ехать было недалеко: около 250 км по железной дороге, по направлению к Челябинску. Ехали днем и могли видеть иртышскую степь с разбросанными по ней березовыми рощами и многочисленными озерами. Степь была целинная. Никаких признаков пахоты на ней не было. В Петропавловск о нашем выезде дали телеграмму. Приехав, мы были встречены на вокзале; за нами прислали лошадь. Консервный завод находился в одном километре от вокзала. На его территории был жилой деревянный дом, где и помещались технические работники завода. Кроме нас, на Петропавловском заводе уже работало трое студентов Лесного института. Вместе с ними нас стало шесть человек. Заведовал заводом Федор Никифорович Зеленин, агроном со средним образованием, талантливый, как мы вскоре убедились, администратор. У него был помощник Хвощинский, тоже агроном, и два ветеринарных врача. Все десять человек разместились в деревянном жилом доме, в котором было четыре больших комнаты и кухня. Питание было организовано на коммунальных началах. Была приглашена очень опытная повариха, а один из нас выполнял обязанности эконома. Питание обходилось нам не дороже 25 руб. в месяц на каждого. Долгое время мы не могли привыкнуть к солоноватой воде. Употребление лимонов, в которых у нас не было недостатка, несколько смягчало воду и делало ее приемлемой для питья.
В мае пришло печальное известие о нашем поражение под Цусимой. Никто из нас и раньше не верил в успех эскадры Рождественского, но страшная гибель всего флота поразила даже привыкшие к поражениям сердца. Ясно было, что война проиграна, но завод наш продолжал работать усиленным темпом. Работали на заводе очень напряженно по десять часов в день. Но воскресные дни были в полном нашем распоряжении.
Город Петропавловск находился от завода в трех километрах. Петропавловск уже тогда был значительным городом (около 20000 жителей) со смешанным русско-татарским населением. Несколько церквей и мечетей с каменными красивыми, в восточном стиле, минаретами возвышались над массой деревянных домов, лишенных зелени. Река Ишим протекала под городом в широкой пойме. В окрестностях лесов не было. Повсюду расстилалась бесконечная нетронутые плугом степи. На окраине города, ближе к нашему заводу, был разбит городской сад, но его насаждения были еще молоды. В городе нас интересовала библиотека. Она была хуже омской, но не так уж плоха. Газеты мы выписывали сами вскладчину. Хотя у нас были лошади и экипаж, мы бывали в городе очень редко, не более одного раза в неделю, в субботу, когда мы ездили в баню, находившуюся на ближайшей к нам окраине города.
Напряженная работа на заводе продолжалась май и июнь. Работали у нас люди всех племен и сословий, но более всего было казахов (тогда их называли киргизами). Среди них были мастера петь и играть на национальных инструментах. По вечерам мы часто слушали их незатейливую, приятную музыку. Один из певцов, поэт сделался нашим другом. К сожалению, его сложная в произношении фамилия не удержалась в моей памяти. В июле стало так жарко, что работу консервного завода пришлось прекратить. Остановку сделали на месяц, до начала августа. Это время использовали для ремонта завода.
Мы наняли всем коллективом большую квартиру в городе: верхний этаж благоустроенного особняка, и перебрались в город. Наша квартира не была в центре, но в тоже время и не окраине. Сада при усадьбе не имелось, но были веранды, и мы устроились на новом месте весьма культурно. Свободные дни мы использовали для дальних экскурсий в окрестностях города и для купания в Ишиме. Эта река, по длине равная Дону, но по количеству воды и ширине была не велика. Ширина ее у Петропавловска не превышала 50—70 м. Меж тем от истоков реки Ишим до Петропавловска считалось не менее 1000 км. Чистая и быстрая вода в реке делала купание превосходным.
Степь летом была исключительно хороша. По широкому ее пространству вились узенькие тропы, проложенные пасущимся скотом. Более широкие тропы протоптаны караванами верблюдов. Эти тропы шли с юга и юго-востока от границ Китая. Петропавловск считался крупным торговым пунктом. Сюда стекались товары с огромных пространств Средне-Азиатских и Западно-Сибирских степей.
Местные жители, киргизы носили и летом теплые ватные халаты, меховые шапки и меховые сапоги. Пешком они обычно не ходили, а ездили верхом на лошадях или верблюдах. Однажды мы забрели в киргизскую юрту. Нас угостили кумысом, но в таких грязных деревянных чашках, что нам стоило большого труда выпить кумыс. В то время киргизы вели кочевой образ жизни, занимаясь скотоводством. Земледелием занималось лишь русское население, жавшееся к большим рекам, как Иртыш и Ишим.