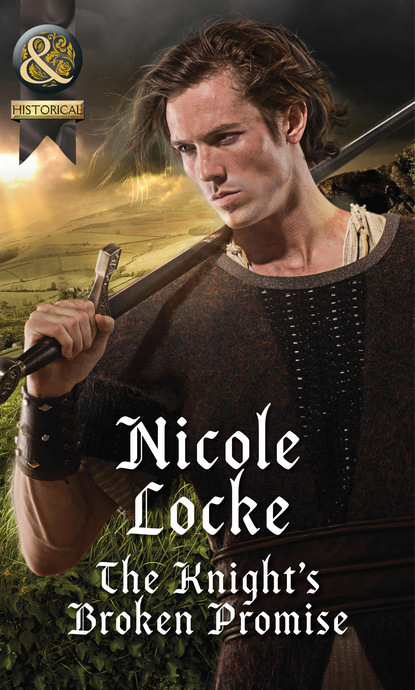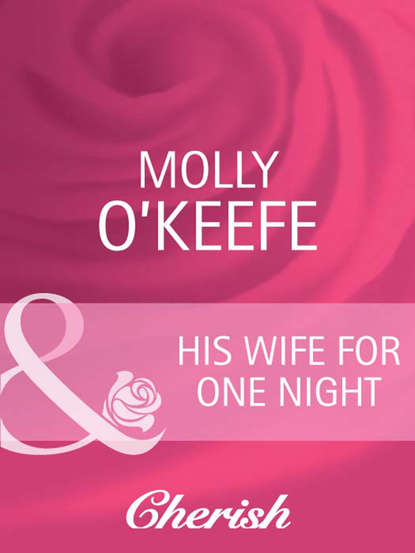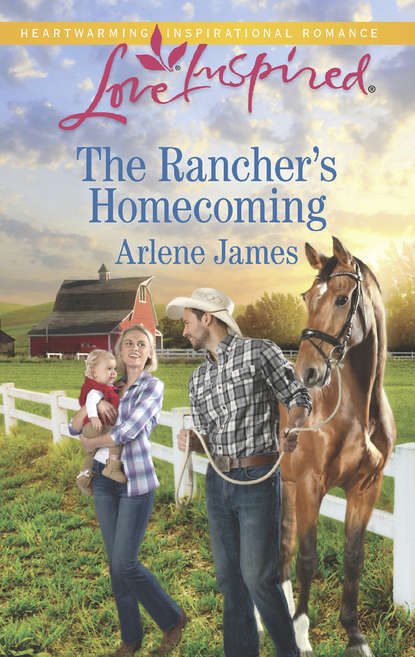Александр и Екатерина. Путешествие в собственное прошлое
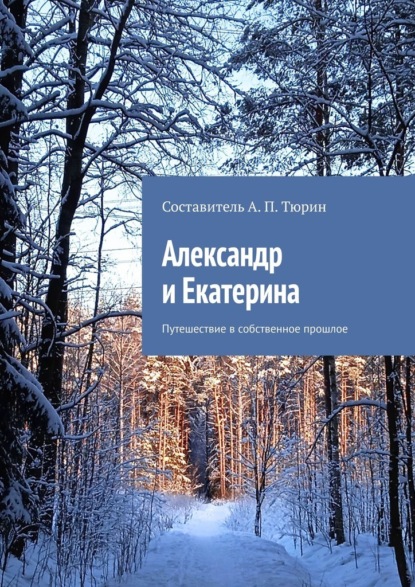
- -
- 100%
- +
Жизнь в городе дала нам возможность познакомиться с местными интеллигентными людьми: агрономами переселенческого управления, медицинскими работниками, учителями. Мы много выписывали политико-экономической литературы (из магазинов и издательств Москвы и Петербурга) и тщательно штудировали ее. В 1905 году такой литературы издавалось большое количество, и издательства, а также крупные магазины охотно высылали ее по заказам. Наша небольшая компания сделалась местным центром, в котором можно вести беседы на широкие политические и экономические темы. Все же в целом, как говориться, мы жили скучновато. Наше общество было мужским: у нас отсутствовали игры, танцы, легкая беседа. У нас было слишком много серьезности и недоставало самой обыкновенной житейской простоты и веселости. К тому же в городе не было ни спектаклей, ни музыкальных вечеров. Мы были лишены музыки, восполняя ее недостаток собственным пением. Из нас шести студентов пять умело петь. Эта пятерка часто пела, доставляя слушателям немалое удовольствие. Никаких музыкальных инструментов у нас, к сожалению, не было.
В начале августа мы снова перебрались на завод и приступили к производству. Война явно шла на убыль, но мы не уменьшили нашего дела, а наоборот расширяли его. Весь август и сентябрь прошел у нас в напряженной работе, хотя в конце августа был заключен Портсмутский мирный договор, и война закончилась. Сведения, получаемые из Петербурга, из Лесного института, говорили, что нам пора ехать учиться. Наше начальство чувствовало необходимость нашего освобождения и постепенно готовилось к замене нас другими работниками. В первых числах октября по старому стилю мы распрощались с заводом и выехали в Петербург, проработав в Западной Сибири больше полугода. Нашей работой были довольны, и мы чувствовали сами, что были полезными и умелыми специалистами в ответственном деле. Федор Никифорович Зеленин трогательно распрощался с нами. Я особенно был привязан к нему, и он отвечал мне тем же.
Возвращение из Западной Сибири
Мы, шестеро студентов, выехали из Петропавловска вместе, но в Челябинске разделились на две группы. Я и Янковский поехали через Екатеринбург в Пермь, чтобы там сесть на камский пароход и поехать по Каме, остальные поехали прямо через Уфу и Москву в Петербург. Эти четверо успели приехать в Петербург до начала всеобщей октябрьской забастовки. Янковский тоже доехал вовремя. Я же попал в самый пик забастовки, так как задержался в пути больше, чем следовало. Впрочем, заранее трудно было тогда сделать какой-либо расчет. Октябрьская всеобщая забастовка возникла стихийно и предугадать ее наступление было невозможно.
Мы ехали на Пермь интересным путем, сначала вдоль Уральского хребта, а потом поперек его. На перевале уже белел снег, но в Перми стояла теплая погода. На пароходе было просторно, тихо и удобно. Пассажиры почти отсутствовали. Мы с Янковским проводили дни на верхней палубе, наслаждаясь очаровательными видами реки Камы. В Петропавловске я купил себе хорошую длинную куртку на козьем меху, и она мне была как раз для поездки на пароходе: легко и тепло. На пристани Пьяный Бор (теперь Красный Бор) я сошел с парохода и направился в Мензелинск, а Янковский направился дальше, до Нижнего Новгорода, чтобы оттуда ехать в Петербург через Москву. Я пробыл в Мензелинске дня три или четыре, после чего снова сел на пароход, направляющийся до Нижнего Новгорода. На Каме стало холодно. Сверху плыли первые льдинки. Камские пароходы делали последние рейсы. Все же с большим удобством я доехал до Нижнего Новгорода, но сойдя на пристань, услышал вести о начавшейся забастовке. Поезда на Москву уже не ходили. Я доехал до вокзала на конке и убедился, что действительно движения нет. На вокзале было тихо. Жизнь остановилась. Но там я узнал, что Рыбинский железнодорожный узел еще работает. На вокзале я встретился с таким же путешественником, как и я. Это был студент третьего курса Лесного института Серебренников. Он приехал в Нижний из Перми так же на пароходе, как и я. У меня возникла мысль доехать до Рыбинска на пароходе (пароходы еще ходили), а там сесть в поезд и доехать до Петербурга через Бологое. Серебрянников согласился со мной. Мы отправились обратно на пристань, сели на пароход и поехали в Рыбинск. Мы ехали два дня. На пароходе было безлюдно, на реке также. Несмотря на тревожную обстановку я вспоминаю эту поездку, как интересную, так как впервые ехал по верхней Волге. С обоих берегов, от маленьких городков и сел веяло на меня далекой стариной Московской Руси.
Материала для размышлений было много. Серебренников был образованный человек. В беседах по поводу начавшегося революционного движения мы незаметно провели время и доехали до Рыбинска. Сойдя на берег, мы наняли извозчика и поехали на вокзал. Увы вокзал был пуст. Движение поездов прекратилось накануне. Чтобы обсудить создавшееся положение, мы с Серебренниковым медленно ходили взад и вперед по перрону. К нам подошел один человек среднего роста, довольно изношенный несмотря на молодой возраст, но элегантно одетый и спросил:
– Вы в Петербург?
– Да, – ответили мы.
– Позвольте познакомиться граф Стенбок-Фермор.
Мы назвали свои фамилии. Граф предложил нам войти с ним в компанию, заказать паровоз и поехать на нем в Петербург. Мы отклонили это предложение и вскоре расстались. Удалось ли графу Стенбок-Фермору уехать на паровозе, не знаю. Вероятно, нет.
К нам подошел еще один гражданин, оказавшийся разведчиком нефти на Сахалине. Он ехал в Петербург. Кажется, его нефтяные участки по Портсмутскому договору отходили к Японии. «Что делать?» – спросил он. И тут у нас возникло решение, единственно здоровое, какое можно было придумать. Мы решили поехать в гостиницу, нанять большой номер, поселиться вместе и ждать дальнейших событий. Мы так и сделали. Наше заселение в гостинице было вполне удовлетворительным. Кроме нас, заезжих путешественников, никого не было. Правда, нам было скучновато. На дворе лил дождь, прогулки отменялись, книги отсутствовали, свежих людей не было. Нас развлекал лишь разведчик нефти с острова Сахалин. Он несколько раз рассказывал нам о своих нефтяных участках, и мы знали все детали.
Семнадцатого октября вечером по городу разнеслись слухи, что царь даровал манифест о свободах. Восемнадцатого – этот слух стал фактом; был расклеен и сам манифест. Мы были в восторге. «Наконец совершилось то, что ожидалось всеми», – думали мы. В городе прошли манифестации, но весьма странные и нас удивившие: с одной стороны шли рабочие с красными флагами, с другой торговцы с иконами и портретом царя. Днем 19 октября начались избиения студентов, застрявших в городе. Я сам случайно избежал печальной участи. Нам в гостинице посоветовали уезжать. Но куда? Поезда из Рыбинска по-прежнему не шли. Пароходы же ходили. Тогда мы решили сесть на пароход и ехать в Ярославль. «Все же Ярославль купеческий город», – подумали мы. Девятнадцатого октября под вечер мы выехали из Рыбинска на пароходе и ночью были в Ярославле. Ночью же проехали через Ярославль на вокзал. В городе шли погромы. Отправление поездов, к счастью, уже началось. Вокзал охраняли войска. Нам удалось сесть в московский поезд, и часов в 11 часов дня 20 октября мы приехали в Москву. Настроение в Москве нам показалось не менее странным, нежели в Рыбинске. Вечером 20 октября мы сумели сесть в петербургский поезд. Утром 21 октября мы были уже в Петербурге. Я и Серебренников сразу поехали в Лесное. Наш разведчик по нефти направился в гостиницу. Мы распростились с ним. В Лесном институте занятий не было, но столовая, превратившаяся в клуб, была открыта. В столовой я увидел своих добрых знакомых, среди них Сергина и Григорьева. Вечером я уже переселился к Григорьевым, где для меня оказалась зарезервированной отдельная комната. У Григорьевых я почувствовал себя, как в родной семье. Мне нужно было хорошо отдохнуть после дороги. К тому же я простудился в пути. Но после нескольких дней покоя и тепла я почувствовал себя крепким и здоровым. У Григорьевых по-прежнему собирались их и мои знакомые: Богуславский, Гладилина и еще несколько курсисток, подруг Григорьевой. У нас опять установилась дружеская веселая компания, в которой хорошо отдыхалось, и к которой мы все тянулись. Характерно для того времени, что, встретившись после долгого перерыва, мы не сопровождали нашу встречу выпивкой. Лишь чай с лимоном и булкой украшал наш дружеский стол.
Осень и зима 1905 года в Петербурге
Лесной институт, как и прочие высшие учебные заведения, с октября 1905 года был снова закрыт. Некоторая часть студентов уехала домой, но значительная часть оставалась в Петербурге. Столовая Лесного института была открыта; она осенью и зимой 1905 года превратилась в политический клуб. Студенты приходили туда около 12 часов дня и проводили там время до 5 часов вечера. В столовой можно было встретить знакомых и узнать последние новости, которые еще не опубликованы в газетах. Там же прочитывались газеты Петербурга и Москвы. Осенью 1905 года в Лесном, как и в других вузах, открыто функционировали политические партийные организации. Наибольшее число членов имели социал-демократы; очень немного социалисты революционеры (эсеры); ничтожное количество студентов принадлежало к партии народных социалистов. В партии кадетов числился один студент. Я входил в организацию социал-демократов большевиков. Студенческие партийные организации находились в некоторой связи с соответствующими районными партийными организациями Выборгской стороны Петербурга. Время от времени в столовой созывались студенческие собрания. Полиция не вмешивалась в жизнь и деятельность студенческой столовой. В описываемую пору существовала легальная социал-демократическая печать. В социал-демократической газете «Новая жизнь», выходившей с 9 ноября по 16 декабря (по старому стилю), печатались статьи В. И. Ленина. Они читались особенно внимательно. Владимир Ильич был уже в ту пору общепризнанным вождем революционно настроенных народных масс. Изредка он выступал с речами на собраниях. Мне пришлось однажды слушать его на одном из таких собраний, кажется, в гостином дворе, у приказчиков. Он говорил о взаимоотношениях между рабочими и крестьянами и предостерегал от «хозяйчиков» -крестьян, не имеющих ничего общего с пролетариатом. В. И. Ленину было тогда тридцать пять лет. Он одевался как рабочий. Речь его, выслушанная собравшимися, была ясно построена и сказана с такой доступностью и убедительностью, что невольно и прочно западала в голову. Говорили, что он немного картавит, но я не заметил этого. В то же, примерно, время мне пришлось послушать Троцкого. Один раз он выступал на женских Бестужевских курсах. Его слушателями были курсистки. По приглашению знакомых курсисток пришло и небольшое количество студентов. Среди них был и я. Троцкий говорил с высокой кафедры о перманентной революции. Слушательницы стояли, а частью сидели на полу и восторженно внимали словам оратора. Он говорил с деланным пафосом, с жестикуляцией, явно позируя.
– Кого он изображает? – спросил меня сосед студент.
– Лассаля! – сказал я, мгновенно вспомнив виденную мною где-то на рисунке фигуру говорящего Лассаля. Действительно, Троцкий манерничал и, вероятно, копировал Лассаля. Его фигура выражала восторженное упоение самим собой. Мы не могли слушать и видеть самообольщенного оратора, не могли равнодушно смотреть на зачарованных оратором слушательниц и покинули зал.
В ноябре в Лесном распространились слухи, что предстоит погром интеллигенции со стороны черносотенцев, гнездившихся в лачугах по Выборгскому шоссе. К студенческим организациям Лесного института стали поступать просьбы от местных жителей прийти им на помощь в случае погрома. Учитывая возможность погрома, студенчество организовало планомерную охрану всей территории Лесного при помощи студенческих патрулей. Откуда-то было получено оружие (браунинги, наганы), но в небольшом количестве. Оттого ли, что была организована вооруженная охрана, или слух о предстоящем погроме был необоснован, но вся осень и зима 1905 года прошла для Лесного спокойно. Жители были благодарны студенчеству.
В конце ноября я имел возможность узнать близко быт рабочих Выборгской стороны. В одном из рабочих кружков я был пропагандистом. Материальное положение рабочих в то время было исключительно тяжелым. Они определенно недоедали, белье и одежда были изношены. Маленькие комнаты, в которых они жили по несколько человек, не имели никакой обстановки, кроме стола, общей кровати и нескольких табуретов. Но тяга к культуре, просвещению была огромна. Забастовки 1905 года тяжело переживались ими, так как многие фабрично-заводские заведения не восстановили своей деятельности, и рабочие не имели постоянного заработка.
Всеобщая октябрьская забастовка, имевшая такой исключительный политический результат, была предметом удивления для самих рабочих. Но полностью использовать октябрьскую победу рабочий класс еще не умел. Он не был должным образом организован. И когда в ответ на действия правительства, начавшего оправляться после своего октябрьского поражения и приступившего к расправе со своими противниками, в декабре была объявлена новая всеобщая забастовка с призывом к вооруженному восстанию – должного эффекта уже не получилось. Забастовка не удалась, а вооруженное восстание, особенно сильное в Москве, было раздавлено. Я был свидетелем подготовки к вооруженному восстанию в некоторых местах Выборгской стороны Петербурга. В руках будущих участников восстания были лишь браунинги, да и то а очень малом количестве. Подготовки к боевым действиям не было. Плана действий не существовало. Естественно, что попытка вооруженного восстания в декабре (я был свидетелем и безоружным участником его на Выборгской стороне) – была быстро ликвидирована. После декабрьских событий реакция усилилась. Начались страшные репрессии. Студенты почти все разъехались по домам. О возможности открытия вузов нечего было и думать, по крайней мере до следующего учебного года. Я задержался в Петербурге, надеясь подыскать работу в отъезд, как в предыдущем году. Такая работа подвертывалась от переселенческого управления. Шли переговоры, уточнялись детали. Тем временем я продолжал заниматься самообразованием. Меня увлекали в это время политико-экономические и исторические вопросы. Характерно для моего настроения осени и зимы 1905 года, что я перестал интересоваться лесным делом. Оно отходило от меня все дальше и дальше, я даже стал сомневаться, стоит ли мне учиться в Лесном институте?
1906 год. Болезнь. Клиника Виллие
В конце января 1906 года я заболел. Высокая температура и сильная головная боль заставили меня лечь в постель. Я думал, что отлежусь так же скоро и легко, как это случалось со мной и раньше. Но чем дольше я лежал, тем было мне хуже. О моей болезни узнали мои приятели А. М. Сергин и Б. Е. Верлюк. Они тотчас же позвали врача из институтской больницы. Врач, доктор медицины Дементьев осмотрел меня и положил в институтскую больницу. Ходить я уже не мог, меня отвезли на санках, на лошади. Я пролежал в институтской больнице несколько дней. Определился брюшной тиф в очень тяжелой форме. Мне делалось все хуже и хуже. Тогда меня решили перевезти в лучшую клинику того времени, в клинику Виллие. Я плохо помню этот переезд (около 5 км), так как по временам терял сознание. Это было в начале февраля. В клинике Виллие я пролежал до половины апреля. Мое выздоровление произошло только вследствие заботливого и искусного лечения. В других условиях я не перенес бы тяжелой болезни. Вспоминая сейчас приемы ухода и лечения за мной и другими больными, я не могу испытывать чувств благодарности к лечившим нас врачам и обслуживающим нас сиделкам. Впоследствии мне приходилось бывать и лежать в других больницах и клиниках, но такой прекрасной клиники, как клиника Виллие, я не видел.
Изредка меня навещали в клинике мои друзья: Сергин, Верлюк, Григорьев. Посетителей пускали только в воскресные дни и на очень короткое время. Приходили также письма, но мне при моем состоянии и медленном выздоровлении было трудно на них отвечать. Когда меня выписали из клиники, за мной приехали Григорьевы, чтобы сопровождать меня на паровичке. Я был еще слаб для самостоятельного передвижения. Несколько дней по выходе из клиники я провел у себя в своей квартире. Апрельские дни тогда были солнечные, я часто сидел на скамейке около дома и грелся в лучах солнца. Мои приятели Сергин и Верлюк получили в это время работу в переселенческом управлении с выездом в Западную Сибирь. Было получено там же место и для меня, но я выбыл из строя. В конце апреля Сергин и Верлюк собрались ехать в Сибирь через Москву, Уфу и Челябинск. Моя сестра и зять Д. В. Астапов в это время жили под Уфой, в 25 км от нее, в селе Булгаково, где зять заведовал учебной ремесленной мастерской. Они приглашали меня к себе, в Булгаково, для поправления здоровья. Вышло очень удачно, что я мог ехать до Уфы вместе со своими приятелями. Один бы я в то время не смог доехать из-за моей слабости. Когда мои приятели были полностью готовы к отъезду, я присоединился к ним, и мы тронулись в путь прямым плацкартным поездом до Уфы. Это было в последних числах апреля, в конце пасхальной недели.
Поездка в Уфу. Семейство Воскресенских
Погода благоприятствовала нашему путешествию. Стояла солнечная, довольно теплая погода. За Москвой, когда мы приближались к Волге, стало совсем тепло. На больших остановках я выходил на перрон для прогулки. Ехать было не скучно. Сергин и Верлюк были интересные образованные собеседники. Неизменный чай сопутствовал нам в пути. У нас был с собой эмалированный чайник, кипяток имелся на каждой станции., а буфеты были полны продуктами. На больших станциях мы имели возможность обедать. После болезни я держался строгой диеты. Но чай с лимоном не был мне вреден. Кажется, что в Уфу поезд прибыл ночью или поздно вечером. Мне, по-видимому, пришлось переночевать на вокзале. В то время вокзалы не были так переполнены пассажирами, как в двадцатые и тридцатые годы, и переночевать в них было нетрудно. На утро я должен был разыскать в Уфе знакомых моего зятя, Воскресенских и Стешиных, так как там должна была дожидаться присланная за мной из Булгакова лошадь с проводником. День моего приезда в Уфу был мною рассчитан еще в Петербурге, и я заранее известил зятя о дне моего приезда в Уфу. Адрес Стешиных и Воскресенских был мне сообщен в письмах сестры и зятя заблаговременно. Со мною было мало вещей, легко переносимых собственными силами даже при моем болезненном состоянии. Чтобы добраться до центра города, я взял извозчика. Мне хотелось сначала побывать у моего знакомого Андрея Бодылева, товарища по городскому училищу, работавшего в Уфе в земском книжном складе. Повидавшись с ним и расспросив его о тех улицах, на которых жили Стешины и Воскресенские, я направился, однако не к Стешиным, которые жили ближе к центру, а к Воскресенским, которые жили далеко от центра, в слободе Нижегородка. День был прекрасный, теплый, солнечный, мне хотелось посмотреть город. По этой причине я выбрал для себя дальний маршрут. Вещи свои, хотя и маленькие, я оставил у Бодылева, чтобы потом заехать за ними, когда я направлюсь в Булгаково. Город показался мне опрятным. Я шел по Пушкинской улице. Тротуары были выложены широкими известняковыми плитами. Повсюду виднелись деревья и яблоневые сады. Все это было далеко не похоже на Омск и Петропавловск. Подойдя к спуску в слободу Нижегородку, я залюбовался с высоты правого берега реки Белой на ее пойму и заречную лесостепную равнину. Была видна огромная даль, потонувшая в теплом синем воздухе. Я вспомнил детские впечатления о широких кругозорах Прикамья, и на меня повеяло от реки и равнины чем-то родным, близким, знакомым. Мне стало легко и радостно на душе. В приподнятом настроении я спустился в Нижегородку, нашел школу №5 и вошел на ее двор. Там во дворе, в школьном домике жили Воскресенские. Как мне заранее сообщила сестра, Вера Алексеевна была учительницей школы. К ней и лежал мой путь. Пасхальная неделя уже кончилась. Во дворе кричали школьники. Была, кажется, большая перемена. Я спросил ребятишек, где живет Вера Алексеевна, учительница школы. «Вот, вот где!» – закричали ребята и провели меня к садовому домику. Я вошел в домик. Было чисто, уютно, светло. В прихожей меня встретила пожилая, но еще бодрая женщина в тёмно-синем платье, с проницательным, но добрым взглядом. Это и была Вера Алексеевна Воскресенская. Я представился, и мы познакомились. Через несколько минут я уже сидел у нее в гостиной-столовой и пил чай с куличом. В комнате был обеденный стол, диван, пианино, буфет. Мы быстро нашли темы для разговора. И разговор у нас начался интересный, волнующий и Веру Алексеевну и меня. В самый разгар нашей беседы в комнату тихо, почти робко, вошла молодая девушка со светлыми волосами, светлым взглядом несколько печальных близоруких глаз. «Моя дочь Лиза», – сказала Вера Алексеевна. Я назвал себя. Это была Елизавета Петровна Воскресенская. Взглянув на нее в момент ее прихода и видя ее поступь, и ее взгляд, я мгновенно подумал: «Как Лиза из „Дворянского гнезда“ (героиня романа Тургенева)!» Она действительно была такой, но об этом позже. «У меня еще две дочери – продолжала Вера Алексеевна – одну Вы увидите в Булгаково завтра, там учительствует, а третья меньшая, учится здесь… Потом познакомитесь». Елизавета Петровна несмело приняла участие в разговоре, но вскоре ушла в школу. Она учительствовала в Нижегородской школе вместе с матерью.

Елизавета Петровна Воскресенская. 1902 год
Часа через два или три я простился с Воскресенскими и пошел к Стешиным. Там меня действительно ждала подвода, как об этом сообщила мне Вера Алексеевна со слов нарочно присланного человека. На прощание я получил от Веры Алексеевны приглашение заходить в Нижегородку при приездах в Уфу. Я охотно обещал ей это сделать.
Стешины жили на горе, в Церкалихином переулке (ныне Краснознаменная улица). Очень медленно и долго шел я по дороге в гору. Наконец, подошел к Стешинскому дому. Дом был хороший, большой с яблоневым садом. Я не стал заходить в дом к Стешиным, познакомившись лишь с хозяйкой дома Александрой Васильевной Стешиной, которая в момент моего прихода стояла у подъезда на улице. Подвода была тут же. Действительно это была моя подвода, нагруженная разными покупками. Для меня, однако место нашлось, и мы тронулись в путь шагом. Езда шагом благоприятствовала мне, так как я не мог перенести тряски, что было бы неизбежно при быстрой езде.

На крыльце у дома Стешиных. Верхний ряд: Александра Васильевна и Анна Ильинична (мать Веры Васильевны) Стешины. Средний ряд: Зинаида (племянница А. И. Стешина),Екатерина Петровна и Вера Алексеевна Воскресенские. Нижний ряд: Мария Петровна и Елизавета Петровна Воскресенские, Александр Алексеевич Стешин. Уфа, 1904 год
Заехав за моими вещами, находившимися у Бодылева, мы медленно спустились по Пушкинской улице к мосту через Белую и направились вперед по Оренбургскому тракту. Был уже вечер. Тракт шел через пойму. Вешняя вода сошла, но пойма была еще мокрая и местами грязная. Столетние осокори стояли по бокам тракта. Некоторые из них имели диаметр более двух метров. Я вспомнил мензелинские тракты со столетними березами. Уже стемнело совершенно, когда мы проехали десятикилометровый ширины пойму и поднялись на берег надпойменной террасы. Я устал и стал дремать. В голове кружились разные мысли и сопоставления. «Итак, – думал я – у меня теперь из знакомых две Елизаветы Петровны, и обе разные. Но Воскресенская лучше, чем Гладилина». Надо заметить, что Гладилина до этой поры мне сильно нравилась. «Какое хорошее семейство, мать и дочь… Но она сказала, что у нее есть еще две дочери, и одна учительствует в Булгакове… Завтра я ее увижу. Интересно, какова эта вторая дочь», – так думал я в полудреме на подводе. В полусне я почувствовал, что мы едем опять какой-то мрачной поймой.
– Где мы едем? – спрашиваю я проводника.
– Это Уршак! – говорит он, показывая на полосу блеснувшей реки.
Едем еще час, наконец, поднимаемся наверх, проезжаем в какие-то узкие ворота и останавливаемся перед большим темным зданием. «Приехали!» – сказал проводник.
Осторожно слезаю с подводы, осматриваюсь, но ничего не вижу. «Вот сюда!» – говорит проводник. Различаю на темном фоне более темное пятно. Оказывается, это открытая дверь. Иду и падаю, так как оказывается, что в глубине темного пятна есть ступеньки, при том их очень много. С великим трудом забираюсь все выше. Как оказалось, надо идти на второй этаж. Наш приезд разбудил, наконец, спящих обитателей большого дома. Появились одиночные огоньки. Вышел мой зять Дометий Васильевич. В темном коридоре послышался любопытствующий шепот. Сестра и дети, мои племянники, спали. Я попросил никого не тревожить, выпил стакан молока с куличом и отправился в приготовленную для меня комнату. Итак, я приехал. С величайшим наслаждением я разделся и лег в приготовленную мне постель. Заснул я моментально, как засыпают после долгого пути, на новом интересном месте.