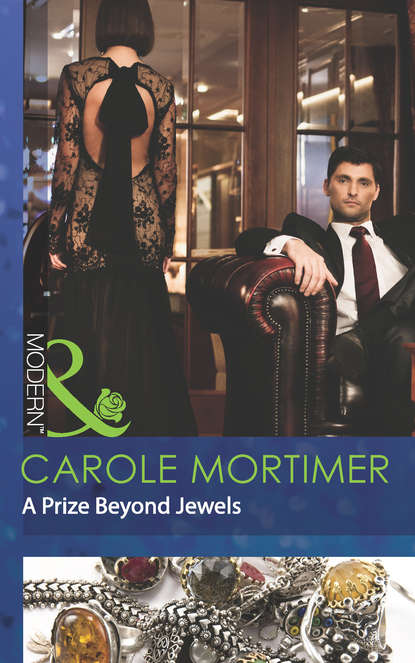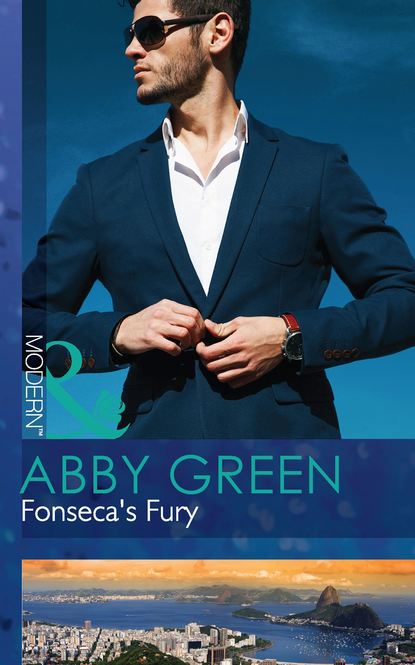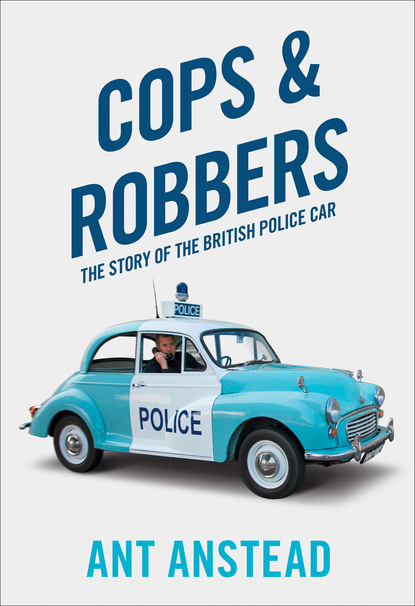Вкус земляники

Это была не просто летняя практика. Для дотошного энтомолога Павла это должен был быть последний шаг в выверенной, как чертёж, жизни. Для Лены — рыжеволосой студентки с опасной красотой и ранимой душой — последний шанс на свободу перед уготованной ей судьбой в Киеве.
Их столкновение было неизбежным, как гроза над Томью. С первого взгляда, с первого поцелуя, в котором был вкус спелой земляники, их миры перевернулись.
Их чувства проходили проверку за проверкой: ночь ревности, попытка соблазнения, нападки окружения. Но с каждым испытанием их связь лишь крепла, превращаясь из страстного увлечения в осознанный, прочный союз.
Последние дни превратились в отчаянную попытку остановить время. Они создали «карту памяти» на берёсте, закопали «капсулу времени» и дали клятву верности у последнего костра. Их любовь достигла своей чистой и трагической кульминации в прощальную ночь, где страсть уступила место жертвенной нежности. Это повесть Это повесть о любви как о самой большой авантюре.