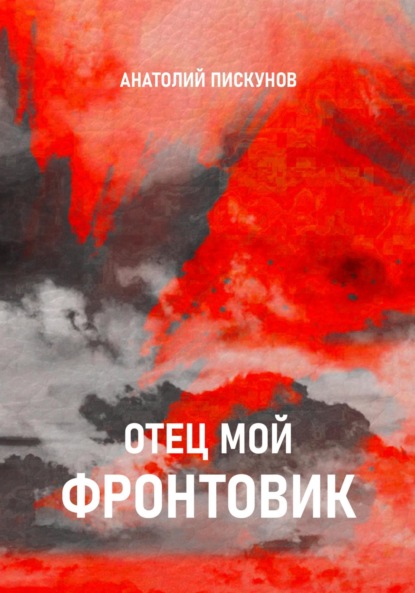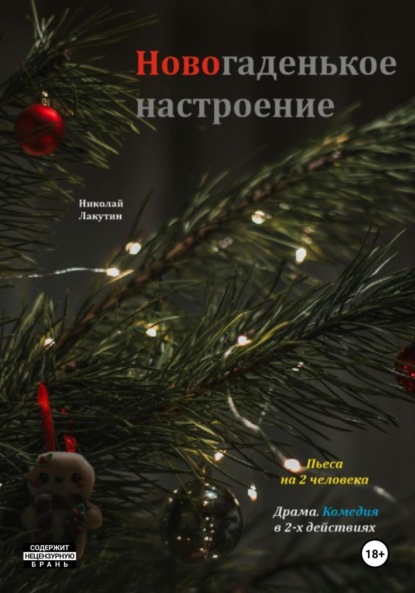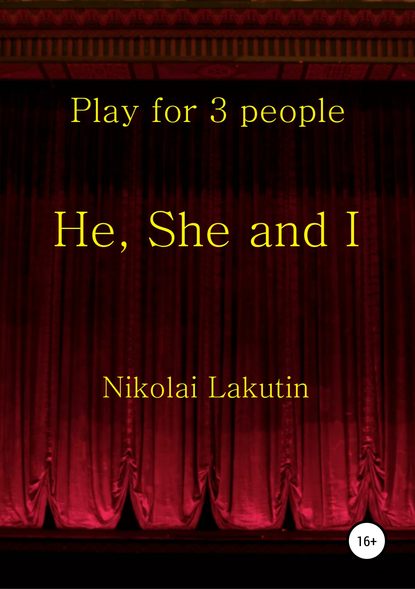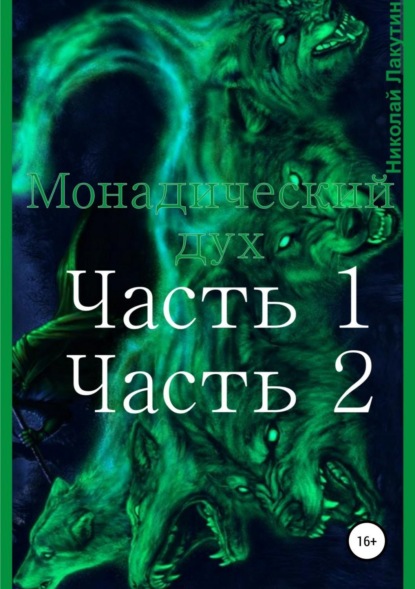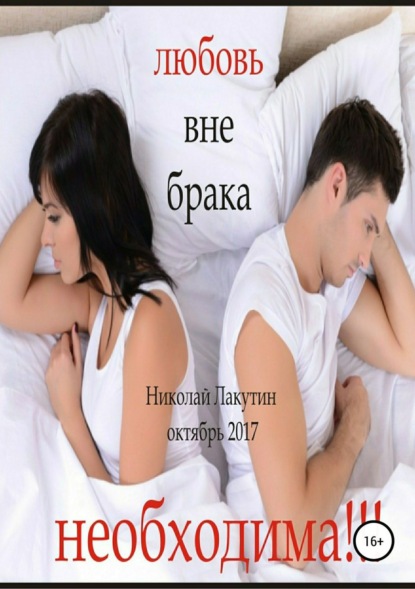- -
- 100%
- +

ПРОЛОГ
Отцу моему, Петру Тимофеевичу Пискунову, было 70, когда он умер. Случилось это в 1993 году. Минуло три с лишним десятилетия, но кажется, прошла вечность.
Я прожил уже значительно дольше, чем он. Скоро не станет и меня, и тогда может бесследно стереться память о нём, ветеране Великой Отечественной, участнике Сталинградской битвы. Затянулись же землёй окопы и воронки, быльём поросли места, где гремели сражения.
Вспоминать о войне отец не любил и только раз в году – 9 мая – надевал пиджак с наградами. Его рассказы о боях были немногословны, как у большинства тех, кто испытал фронтовые мытарства. У меня же вечно не хватало времени расспросить, где и как воевал. Да и слушалось по молодости краем уха. Теперь об этом остаётся лишь сожалеть.
Внешне отец выглядел здоровяком, однако физических нагрузок не выдерживал. Это становилось особенно заметно, когда мы пилили дрова или копали огород. А стоило ему полежать под легковушкой, подтягивая гайки, как тут же подстуживал едва защищённое лёгкое. Между тем инвалидность по ранению оформил, только достигнув пенсионного возраста.
Память сохранила эпизод из раннего детства.
Спозаранку мама хлопочет на кухне. Я, совсем ещё кроха, крадусь туда, где отец; он или дремлет, или делает вид, что спит, лёжа на животе, лицом к стене. Лечу что есть духу, взмываю над обнажённой широкой спиной и падаю, распластываюсь, целиком умещаюсь на левой её стороне.
Рядом, на месте правой лопатки, – пугающе огромный кирпично-красный рубец. Опасливо провожу пальчиком по шершавой неровности. Плечи отца вздрагивают от беззвучного смеха…
Помнится, незадолго до смерти он, едва скрывая гордость, протянул мне пухлую книжку, открытую на странице, где описывался бой с его участием.
Около 20 танков со свастикой прорвали оборону. Часть батальона, покинув окопы, кинулась искать спасения в тылу. Однако рота миномётов, которой командовал старший лейтенант Пискунов, продолжала вести огонь, отсекая наступавших немецких автоматчиков от бронированных машин. Немало наших бойцов полегло, а тяжелораненого командира с поля боя вынес ординарец…
В детстве я слышал эту историю от отца.
Не заметив особой заинтересованности, он отобрал книжку.
Меня и в самом деле занимало иное. Мама тяжело болела, я привёз лекарство, купленное друзьями за рубежом, и волновался, поможет ли. А жили мы порознь: я в Москве, родители в Крыму – родине моей, с 1991-го в одночасье ставшей зарубежьем. Навещать их стало непросто, заграница – не наездишься!..
Вскоре оба они умерли. В пучину 1990-х канули отцовские награды, куда-то запропастилась его библиотечка.
Ту книгу, где отцу посвятили абзац, я пытался найти на полках магазинов и книжных развалах, сайте «Военная литература». Увы, попробуй отыскать её, не запомнив ни названия, ни фамилии автора.
Историк Елена Сенявская как-то писала, что «ветераны Великой Отечественной не заслужили того, как с ними обошлось общество… Мы все в долгу перед этим поколением, которое, увы, имеет серьёзные основания считать, что его предали собственные дети и внуки. Но и дети, и внуки должны отдавать себе отчёт в том, что без этого фронтового прошлого у России нет будущего»1.
Далеко не сразу я стал понимать, что слова эти адресованы и мне. Когда страна отмечала 70-летие Победы, у моих тогда ещё несовершеннолетних внуков пробудился интерес к судьбе прадеда. Увы, оказалось, об отцовской военной службе мне почти нечего сказать. И я взялся за работу.
Чем располагал в самом начале? Свидетельством о рождении. Военным билетом, где указаны этапы прохождения службы, участие в боевых действиях. Орденской книжкой. Учётной карточкой члена КПСС.
Этого хватило, чтобы наметить карту поиска. Вот её контуры: 2-е Орджоникидзевское военное пехотное училище; 191-я танковая бригада; 905‑й стрелковый полк; эвакогоспиталь № 4938; 555-й стрелковый полк; эвакогоспиталь № 1706.
Стал перелопачивать залежи интернета: вдруг да сверкнут, как песчинки на дне лотка золотоискателя, крупицы нужных сведений.
Отыскался короткий, но ёмкий очерк о курсантах 2-го Орджоникидзевского военного училища. Николай Фадеев и его друзья поступили туда, когда отец уже заканчивал учёбу. Их воспоминания проясняют, кто помог ему стать настоящим командиром2.
Сведений о 29-м запасном стрелковом полку и 191-й танковой бригаде в Сети ничтожно мало. Зато повезло насчёт 248-й стрелковой дивизии. Проливают свет на её историю труды У. Б. Очирова и О. В. Шеина. А вскоре удалось раздобыть книги Героя Советского Союза Г. М. Ленёва и В. П. Скоробогатова – ветеранов дивизии и 28-й армии, в которой она родилась.
Подобных публикаций о 127-й стрелковой дивизии не попадалось. Пришлось полтора месяца поработать в Подольске, Центральном архиве Министерства обороны.
В итоге отцовская военная биография выглядела так:
– сентябрь 1941-го – апрель 1942‑го – курсант 2-го Орджоникидзевского военного пехотного училища;
– апрель – май 1942-го – командир миномётного взвода 29-го запасного стрелкового полка;
– 20 мая – октябрь 1942-го – командир миномётного взвода 191-й танковой бригады;
– 13 октября 1942-го – 12 января 1943-го – командир миномётного взвода, миномётной роты 3-го батальона 905-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии;
– с 13 января 1943-го – ранбольной (термин того времени), отдельный медико-санитарный батальон № 277, эвакогоспиталь № 4938, затем, до апреля 1943-го, госпиталь № 4688;
– 18 апреля – 10 мая 1943‑го – командир миномётной роты 98-й отдельной стрелковой бригады;
– 10 мая – 7 декабря 1943‑го – командир миномётной роты 555-го стрелкового полка 127‑й стрелковой дивизии;
– 7 декабря 1943‑го – ранен, отдельный медико-санитарный батальон № 249, 9 декабря – передвижной эвакуационный пункт № 153, 7 января – 8 апреля 1944‑го – госпиталь № 1706;
– апрель – июль 1944‑го – офицер резерва, Харьковский военный округ;
– июль 1944‑го – июль 1946‑го – служба в райвоенкоматах Молдавской ССР;
– июль 1946-го – уволен в запас3.
Материалов – из архива, периодической печати, документальной и художественной прозы – набралось предостаточно. Понадобилось немало времени, чтобы привести их в божеский вид. Конечно, лёгкое журналистское перо оказалось бы проворнее, но где его взять…
К тому же задачу я усложнил. Захотелось прояснить, как отец и его поколение готовились к надвигавшимся испытаниям.
ГЛАВА I. ПЕРЕД ВОЙНОЙ
1.1. Начало пути
Жизненный путь любого из нас пролегает, как ни банально звучит, в пространстве и времени. На характеры, взгляды и поступки влияют не только уклад, условия местечка, где мы обитаем, – семьи, села или города, области. Воздействует ещё и ход событий в мире, эпоха.
Нам не познать судьбу человека, не разобравшись во всём этом…
Отцу в 1938-м исполнилось 15 лет.
Прошлое мы видим, как правило, не таким, каким оно было, но сквозь тёмную либо розовую призму наших представлений о нём. Назвал год – и повеяло повальными арестами, судами, расстрелами. Мерещится созданный лукавыми политиками в соавторстве с мастерами слова и кино угрюмый, пугающий образ советской эпохи.
Более полувека по свету гуляют цифры, пугающие размахом сталинских репрессий. Публицист Рой Медведев насчитал 40, западные советологи – 50–60, писатель Александр Солженицын – 66 миллионов репрессированных.
А что было на самом деле? Известный учёный Виктор Земсков, чья научная добросовестность не вызывает сомнений у российских и зарубежных коллег, скрупулёзно перелопатив статистическую отчётность органов ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ, убедился, что данные о политических репрессиях в нашей стране многократно завышены.
В 1921–1953 годах за контрреволюционные преступления осуждено 3 миллиона 777 тысяч 380, в том числе к высшей мере – 642 тысячи 980 человек. Более трети осуждённых, или около 1 миллиона 416 тысяч, не подлежат реабилитации, это бандиты, басмачи, полицаи, власовцы, зондеркомандовцы и прочие пособники оккупантов4.
Преувеличено число крестьян, пострадавших при раскулачивании.
К жертвам политического террора необоснованно причисляются умершие в 1932–1933 годах от голода, первопричиной которого, вопреки мифу о голодоморе, была засуха. Кстати, голодные смерти выкашивали тогда население не только СССР, но также Польши и Румынии, причём не только находившихся в их составе западных областей Украины.
В целом же, как скрупулёзно подсчитал В. Н. Земсков, «97,5 % населения СССР не подвергалось политическим репрессиям ни в какой форме»5.
Безусловно, снисходительную улыбку вызывают довоенные фильмы, где бытие советских людей рисуется в неправдоподобно светлых красках.
Далека от истины и мрачная картина прошлого, созданная нашими современниками «с мнимой высоты нынешних времен6», как однажды выразился писатель Захар Прилепин.
Будь жизнь юношей и девушек, родившихся после 1917-го, и вправду такой неприглядной, не стали бы они бороться столь отчаянно, жертвенно с озверелой нацистской сворой, проявляя массовый героизм. Люди сражались не только против посягательства на родную землю, но многие ещё и за советскую власть…
Отец родился 12 июля 1923 года в деревне Петровке Саранского района Мордовской АССР – населённом пункте, которого давно нет на географической карте.
Дед мой Тимофей Фёдорович и бабушка Мария Георгиевна (чаще её величали Егоровной) были родом из крестьян-бедняков. Война застала многодетную семью в Крыму, на Арабатской стрелке.
В детстве я часто слышал это экзотическое название. Но, хотя и родился неподалёку, и прожил на полуострове без малого 40 лет, и вроде исколесил его вдоль и поперек, так, увы, и не добрался до тех мест. Изучаю теперь по публикациям в интернете.
Полезной находкой оказался путеводитель «Арабатская Стрелка» 1983 года. Читаешь – и перед тобой как на ладони «огромный песчаный пляж, залитый ярким палящим солнцем, а рядом – узкая дорога, убегающая в необозримую даль» 7.
Это вытянутая часть суши длиной более ста и шириной до восьми километров, сужающаяся кое-где до 200 метров. Поверхность, пишет гидрогеолог Юрий Шутов, «равнинная, коса изрезана заливами и бухтами, а вдоль нее растёт гряда клёнов и тополей».
Арабатка разделяет Азовское море и Сиваш. На севере они связаны отсекающим стрелку от материка Геническим, или Тонким, проливом. Соседний, Промоину, образовали морские штормы, бушевавшие в 1969-м и 1970-м. Там же, на севере, Геническое и Зябловское (Кассырское) солёные бессточные озера.
Южной оконечностью Арабатка упирается в Ак-Монайский перешеек, соединяющий Керченский полуостров с основной частью Крыма.
Название стрелке дала старинная крепость Арабат, или Ребат, её развалины находятся в двух километрах на северо-запад от Ак-Моная – ныне села Каменского Ленинского района Республики Крым.
В средние века здесь пролегал бойкий торговый путь; по нему на полуостров доставляли меха, масло, сукно, а на материк отправляли судакское вино и соль.
Россия осваивала стрелку с начала XIX века. Строились казённые солеварни; в 1835 году проложили почтовый тракт Мелитополь – Феодосия с пятью почтовыми станциями. Возле них и в районах добычи соли возникли первые поселения.
На дореволюционных картах отображена железнодорожная ветка от Новоалексеевки через Геническ до конечной станции «Водоснабжение» (Генгорка). Использовавшаяся для вывоза продукции соляных промыслов, дорога была разрушена в Гражданскую войну.
К тому времени как сюда переехала семья моего деда, сохранилось несколько поселений: Геническая Горка, или Генгорка, Чурубаш (с 1945-го Приозёрное), Счастливцево, Стрелковое, посёлок Сольпрома (с 1948-го Соляное). Счастливцевский и Стрелковский сельские советы относились к Джанкойскому району Крымской АССР, преобразованной после войны в Крымскую область РСФСР.
Широкая северная часть Арабатской стрелки плодородна. Чем дальше от Сиваша к побережью Азова, тем заметнее солонцы вытесняются лугово-каштановыми, пригодными для пастбищ, а затем и тёмно-каштановыми почвами.
Земли здесь добры к тополю, маслине, акации, туе, шиповнику, иве, орешнику, сирени. Обильно плодоносят яблони, груши, абрикосы, кизил, вишня, крыжовник. В прежние времена, царские и советские, баловали урожаями пшеница, ячмень, горох, кукуруза, овощи.
В этих благодатных местах, неподалёку от Геническа, в Счастливцеве, перед войной проживала семья моего деда.
Согласно легенде, село названо удачливыми семьями садоводов, переселившимися из Киевской губернии в конце XIX века. Между тем всё куда прозаичнее. С 1840 года известен хутор, принадлежавший Ивану Гавриловичу Щастливцеву, деятельному смотрителю казённых Генических соляных озёр. Так что в 2025 году этот населённый пункт может праздновать своё 185-летие.
Где жили Пискуновы?
Найдём в интернете спутниковую карту Счастливцева.
Улица Мира, когда по ней ходил отец, носила имя Ленина, Зелёная была Советской. Сивашская, Морская, Набережная так, видимо, назывались издавна.
Улицы, наречённые в честь Рамазана Кузнецова, погибшего в 1941-м в бою за село, космонавтов Гагарина и Комарова, не успели, похоже, переименовать в угаре декоммунизации.
В годы независимости Украины местный совхоз ликвидировали, сады и виноградники выкорчевали, от производственных построек остались, говорят в интернете, «груды битого камня». Зато на берегу Азовского моря поднялись коттеджи.
В 2022 году Счастливцево вернулось в Россию. Намечаются перемены к лучшему. Проведён распределительный газопровод Счастливцево – Геническ. Ожили пансионаты и дома отдыха. Полным ходом идёт строительство арт-кластера «Таврида» – круглогодичного городка, центра для творческой молодёжи всей страны.
1.2. В Феодосию
В 1938-м отец, окончивший неполную среднюю школу, мог пойти в 8-й класс. Был шанс поступить в среднее профессиональное учебное заведение, но в Геническе и Джанкое таковые отсутствовали.
Родители ратовали за Феодосию, там было у кого – дальних родственников – остановиться на жильё. Да и выбор казался немал: техникумов шесть и педагогическое училище, готовившее учителей начальных классов.
Учиться на товароведа, фельдшера или помощника агронома подросток не пожелал. А пробиваться в гидрометеорологи не решился: тут ежегодно конкурс, на каждое место семь человек. Выбрал педагогическое поприще.
Заявления принимали до 15 августа. Без испытаний зачислялись те, кто по основным предметам окончил семилетку на «отлично», по остальным – не ниже чем на «хорошо». Отец был, как говорится, хорошистом, но способности к рисованию и пению имел, откровенно говоря, посредственные. Такие они, между прочим, достались и мне.
Пришлось после выпускных экзаменов готовиться к вступительным. А в начале августа пустились в дорогу.
Отец мог и сам добраться: довоенная молодёжь рано взрослела. Дед решил иначе. С одной стороны, Тимофей Фёдорович основательно загрузился продуктами для родственников, обещавших приютить мальчишку, а с другой, хотел помочь ему приодеться.
Эра междугородных автобусов не наступила, до Геническа ехали попуткой. Оттуда поездом, с пересадкой в Новоалексеевке, до Джанкоя. Дальше – по однопутной железной дороге в опалённом засухой восточном Крыму.
Стоял знойный август; по данным архива погоды, температура превышала 30 градусов. Представляю, как состав осоловело тащится в степи, стоит на разъездах, пропуская встречные. В раскалённом на солнце вагоне нечем дышать. Увядшая пожухлая трава устилает землю, бурые стебли бурьяна покачиваются на волне суховея. Кое-где на ровной, как стол, поверхности возвышаются курганы – часовые ушедших веков.
Оазисами в пустыне выглядели станции, особенно Сейтлер (Нижнегорская), где вековые тополя и сады пили воды Салгира и его притока Биюк‑Карасу.
После Владиславовки, откуда разбегались керченская и феодосийская ветки, рельеф стал разнообразнее: глубокие балки, долины, холмы. Постояв на станции Сарыголь (сейчас Айвазовская), предпоследней, отправились дальше. Подросток, понятно, смотрел во все глаза.
Слева за вагонным окном открылось море, слитое с широким устьем Байбуги. А с противоположной стороны потянулся проспект Ленина, с 2003-го проспект Айвазовского.
Поезд нырнул под Межениновский пешеходный мост. Справа от него выглянул из пышной зелени особняк. Он и сейчас похож на дворец из восточной сказки – миниатюрные минареты, купола-полусферы, колонны, крытые галереи, террасы, стрельчатые арки, мозаичные окна, ажурные решётки, стройные кипарисы. Это, пояснили отцу, один из первых в Крыму санаториев для трудящихся, а до 1917-го – дача Стамболи, сына табачного фабриканта.
За невысоким серокаменным заборчиком проплыли роскошные особняки. Вот, указал кто-то знающий, вероятно из местных, Инфизмет – Институт физических методов лечения с грязелечебницей. А вот санаторий для работников железной дороги, больных туберкулёзом.
До революции это были, сообщает автор современного путеводителя, «виллы богатейших промышленников и иных достойных граждан Феодосии, Крыма и обеих столиц». После бегства хозяев, объяснил сыну Тимофей Фёдорович, советская власть устроила в их дачах здравницы для рабочих и крестьян.
Лязгая сцепками, поезд остановился у вокзала. В 1941-м его полностью разрушили, уцелела, по словам старожилов, «гранитная ступень у главного входа»8. Но тогда, летом 1938-го, подросток не мог не восхититься белокаменным, из инкерманского известняка зданием в классическом стиле.
Сначала заскочили к родственникам, оставили вещи.
Помнится, в начале 1960-х мы заглянули туда всей семьёй. Наш «Запорожец», попетляв по городу, остановился на тихой улочке. Ухоженный дворик, утопающий в зелени домик, обходительные хозяева, – наверно, мало что изменилось после того, как впервые оказался здесь отец.
Отсюда рукой до училища подать. Представляю, как по улице Розы Люксембург, теперь это Адмиральский бульвар, дед с отцом идут к возвышающемуся над площадью трёхэтажному зданию, возведённому в 1890 году для мужской гимназии.
С 1915-го здесь обосновался учительский институт. В 1920-м он стал Институтом народного образования, в 1923-м – педагогическим техникумом с преподаванием на русском, немецком и еврейском языках, готовившим учителей для сельских школ. В 1937-м его, как и другие подобные заведения, по решению Наркомпроса РСФСР преобразовали в педагогическое училище.
Думается, подростка, да и деда моего, потряс вид учебного заведения, представшего перед ними дворцом или храмом образования.
Ажурная чугунная ограда стерегла просторный двор. От парадного входа мраморная лестница вела на первый и второй этажи. По краям ступеней были вмурованы железные кольца, некогда поддерживавшие ковровую дорожку. Впечатляли просторные классы, огромные окна, высокие потолки.
В приёмной комиссии приняли документы. Напомнили, что вступительные испытания пройдут с 16 по 28 августа, растолковали порядок их проведения.
Прежде чем отправиться в обратную дорогу, Тимофей Фёдорович помог сыну подобрать костюм и обувь. Магазины отыскали, пройдясь от фонтана Айвазовского до Карантина по улице Горького.
Боже, как потрясающе выглядела бывшая Итальянская!
«Вторые этажи домов нависали над тротуарами, опирались на колонны и столбы, образуя открытую галерею, где уставший человек мог всегда отдохнуть в тени… Арка вдоль тротуаров, тесанная из камня, детали фасадов, кованные решеткой балконы, в сочетании с гранитной брусчатой мостовой и плиточными тротуарами, придавали улице южный колорит»9.
Такой видел отец улицу. Увы, не застал я ту Итальянскую. Война разрушила её настолько, что было невозможно восстановить прежний вид.
1.3. В Феодосийском училище
Весь август Феодосия изнемогала от нестерпимой жары. Стояла сушь, во второй половине месяца лишь однажды обрушился ливень и два раза поморосило.
Отец успешно выдержал вступительные испытания, и в четверг 1 сентября начались занятия.
Снова, теперь уже в качестве будущего учителя, он изучал предметы начальной школы: русский язык, арифметику, историю, естествознание, географию, пение, рисование, чистописание, физкультуру.
Считалось также, что педагог должен владеть знаниями по элементарной математике, физике, химии, родной литературе, истории. Изучались педагогика, методика преподавания учебных дисциплин, предусматривалась педагогическая практика.
Занятия длились с 8 часов утра до 14; потом, после отдыха, учащиеся под руководством педагога-консультанта до 18 часов готовились к урокам. Это если бы имелось общежитие. А поскольку оно, по всей видимости, отсутствовало, то два часа на самоподготовку использовали сразу после обеда.
Учился отец в охотку, используя все возможности. А было их немало: и предметные кабинеты, и библиотека с книжным фондом побогаче Счастливцевской школьной, и комплект музыкальных инструментов. И, конечно, кружки по интересам.
Тогда и научился отец игре на балалайке.
Едва ли не главной фигурой для учащихся был классный руководитель. Он помогал выполнять домашние задания, проводил во внеурочное время беседы и читки по вопросам текущей политики, разъяснял положения краткого курса истории ВКП(б), опубликованного в сентябре того года в газете «Правда». А выходные дни тратил на то, чтобы повысить культурный уровень будущих сельских учителей.
Погода стояла тёплая и, если не считать случившегося однажды ливня, сухая, – поистине золотая осень.
Классный руководитель, он же, со слов отца, учитель истории, бродил с учащимися по улочкам древней Кафы. Восходил с ними на Митридат полюбоваться видом на город и зданием наверху, похожим на античный храм, – сейсмологической станцией, обосновавшейся вместо музея древностей. Сопровождал на Карантинный холм к развалинам Генуэзской крепости – каменной памяти веков.
А когда погода ухудшилась, водил в картинную галерею Айвазовского и дом живописца, куда был перенесён краеведческий музей. Или смотрел с подопечными кинофильмы.
Как жил первокурсник?
Имеются свидетельства, что стипендии едва хватало, чтобы оплатить общежитие и выкупить талоны в столовую.
«Питание, – вспоминал один из будущих учителей, – было крайне бедным, за завтраком – пара ложек манной или пшённой каши, на обед – прозрачный суп, кусочек рыбы или мяса с гарниром, на ужин – чаще отварной картофель или пюре с огурцом. Хлеб, сахар, компот покупали в буфете за наличные деньги…
Несмотря на бедность, жизнь в училище била ключом. Мы были предельно сосредоточены и по-взрослому серьёзны на уроках и беззаботно веселы в свободное время»10.
Под этими словами мог подписаться и мой отец. Родственники, где он проживал, не обижали, хотя и самим приходилось нелегко. Радовался посылкам от родителей. А в зимние и весенние каникулы разживался харчами, наведываясь в Счастливцево.
Несмотря на все трудности, юноша, родившийся в захолустной мордовской деревне, ощущал, как многие его ровесники, уверенность в завтрашнем дне.
Спустя два десятилетия после революции люди сравнивали уровень жизни отнюдь не с западными странами. Для большинства жалкое существование в прошлом подтверждалось вовсе не пропагандой, но жизненным опытом и семейной памятью.
Дед, выходец из бедной семьи, получил образование после Октября, вырос до счетовода в колхозе. Отец и его сверстники воспринимали время их юности, как неизбежную трудную, но недолгую эпоху – переход из отсталого вчерашнего в светлый завтрашний день. Тяготы неизбежны, но преодолимы, необходимо только постараться – усердно учиться и самоотверженно работать. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», – нисколько не сомневаясь, пели они.
«Советские 30‑е годы, закончившиеся 22 июня 1941 года, живут во имя будущего, – отмечает исследователь Сергей Иванников. – Их цель – сделать это будущее максимально близким»11.
Однако не было, наверное, в стране, пережившей две большие войны, Первую мировую и Гражданскую, ни одного человека, кто не ощущал дыхания новой грозы. Осенью 1938-го это чувство обострилось.
Отцовская группа притихла, когда классный руководитель зачитывал выступление наркома иностранных дел СССР 21 сентября. Литвинов предупреждал в Лиге Наций о том, что четыре страны – Абиссиния, Австрия, Китай, Испания – уже стали жертвами агрессии, на очереди пятая, Чехословакия.
Увы, призыв Советского Союза к европейским странам отказаться от попустительства захватчикам не был услышан. Получив благословение Великобритании и Франции, Германия, Польша и Венгрия оторвали от Чехословакии по жирному куску.
Распахнулась дверь, из которой потянуло порохом новой войны. 5 октября Черчилль в британском парламенте заявил: Мюнхенским сговором «нарушено все равновесие Европы…»12