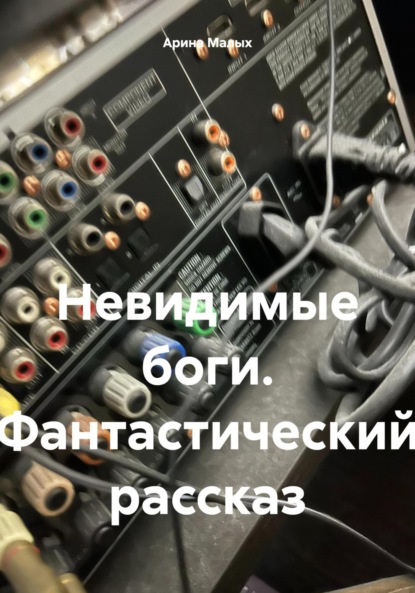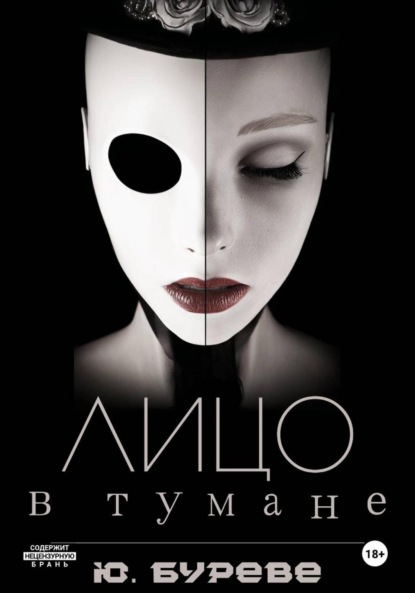Популяция 2.0. Одна свеча в Нью-Йорке

- -
- 100%
- +

Предложение Кэрон
За окном моросит серый дождь. Холодные тучи висят над кронами деревьев, облепленных коркой тающего снега. Сегодня один из тех дней, когда хочется быть с семьёй. Если, конечно, она у вас есть.
На раскладном рабочем столе карманное радио бормочет последние новости. Как всегда, ничего хорошего. Протесты вспыхивают повсюду. В Толуоке силы специального назначения открыли огонь по группам других, пытавшихся перелезть через внешнюю стену. Никто не сбежал.
Капли дождя скользят по стеклу, отражая бордовый цвет моей толстовки. Я смотрю на них и думаю обо всём, что происходит в нашем мире, и о том, насколько другой была бы моя жизнь, если бы мама была рядом. Я закрываю глаза и представляю, как она на цыпочках подходит к моей комнате, прислоняется к двери и смотрит на меня с улыбкой. Мне кажется, я уже чувствую её присутствие… когда вдруг слышу грубый голос.
– Пингвинка… Может, ты хочешь поесть?
Рыг. Он зовёт меня так, потому что в детстве у меня была любимая игрушка – плюшевый пингвин с оторванным крылом.
– Я приготовил завтрак, – продолжает он.
Его голос дрожит. Но он не пьян – иначе я бы уже почувствовала тяжёлый запах перегара.
– Не называй меня так! Моё имя Мали, – огрызаюсь я.
По-тайски «мали» значит «цветок». Так назвала меня мама. Она была тайкой.
– Я знаю, девочка. Прости.
Ещё одно «прости». Я качаю головой, не глядя на него.
После короткой паузы он снова говорит вполголоса:
– Я сделал омлет с брокколи. Как ты любишь.
Что-о-о…
– Где ты взял брокколи? – бормочу я в шоке, поворачиваясь к Рыгу.
Он стоит, прислонившись плечом к дверному косяку, руки глубоко в карманах рваного комбинезона. Поношенная рубашка в клетку, висящая на его некогда сильных плечах, пропитана пивом до неприятной липкости.
Мы встречаемся взглядами. Его измождённое лицо с седеющей щетиной будто слабеет на глазах.
Я хмурю брови. Жду ответа.
Запавшие глаза Рыга блестят. Он улыбается.
– Пусть это будет нашим секретом, Пингвинка.
Пусть это будет нашим секретом?
Меня выворачивает от злости. Я уже и не помню, когда он в последний раз делал что-то по-настоящему отеческое. И даже сейчас он не может сказать, где достал эту чёртову брокколи!
– О, это будет настоящий секрет… Как и я для тебя, – выпаливаю я в ответ.
Мне не хочется даже слышать Рыга. Я прохожу мимо него, не поднимая глаз, и почти бегом спускаюсь по скрипучей лестнице в прихожую.
– Пингвинка, постой! Мали! – кричит Рыг.
Я не оборачиваюсь. Торопливо натягиваю ботинки, вышибаю дверь плечом – и окунаюсь в талую свежесть ранней весны.
***
Неподалёку от нашего дома журчит ручей. Сейчас, когда на улице едва выше нуля, он будто особенно радуется жизни. Словно ускользая в далёкое лето между голыми ветками кустов, он так и манит бежать за собой.
Мне близок дух этого ручья. В детстве, я думала, что он мой друг. Ниже по течению, в небольшой старице, я научилась плавать – и впервые почувствовала себя особенной. В нашем классе никто не умел плавать: у нас тут одни поля да огороды. Поэтому в школе мне никто не верил. Только мама и папа твердили, что я – одна на миллион.
Я помню жаркий летний день: мама и папа смеются над тем, как я «ныряю», просто опуская голову в холодную воду. Хотите верьте, хотите нет, но до смерти мамы Крэг был настоящим отцом. С тех пор в моей жизни почти ничего не осталось – лишь несколько тёплых воспоминаний и водонепроницаемые часы в форме котёнка.
Мама с папой подарили их, когда я пошла в первый класс. Раньше они были тёмно-красными, теперь – выцвели до розового. Я никогда их не снимаю. Каким-то образом эти часы связывают меня с прошлым и напоминают, что я – всё та же девочка, когда-то плескавшаяся в этом ручье.
Разглядывая свои розовые часы, я думаю о том, как, должно быть, здорово расти в счастливой семье. Но тут от дома доносится тяжёлый рёв мотоцикла.
Кто-то приехал?
Но сегодня же суббота – по субботам доставка не работает.
Я прячу замёрзшие ладони в тёплые рукава толстовки и иду к дому. Звук кажется смутно знакомым. Возможно, я просто придумываю… Но едва из-за голых деревьев показывается серый силуэт нашей двухэтажной фермы с крыльцом, я замечаю свою подругу.
Кэрон сидит на побитом внедорожном KTM 450, а с крыльца ей что-то говорит Крэг. Я перепрыгиваю поваленное дерево в ледяной луже и спешу к ним.
«Вон она!» – радостно вскрикивает Рэг и машет мне рукой.
Кэрон оборачивается, сверкая своей дерзкой улыбкой. Её лицо с маленьким заострённым носиком и тёмными пронзительными глазами словно горит свежестью после долгой езды ранним весенним утром. В поношенном байкерском обмундировании, грубо сшитой серой ушанке, толстом шерстяном шарфе и со складным рюкзаком за спиной она выглядит как миниатюрный дорожный пират – с девичьим хвостиком, торчащим из-под шапки.
В нашей округе пиратов немного. И каждый раз, глядя на мою подругу, я понимаю, почему: эта фурия их просто всех распугала.
– Шапка – уже прогресс, но шлем бы тоже не помешал, – бурчу я, подходя ближе.
– Привет, девочка, – отвечает Кэрон, вытирая красный нос тыльной стороной дырявой кожаной перчатки.
Она косится на Рэга и, понизив голос, добавляет:
– Слушай, можем поговорить где-нибудь… подальше от ушей?
– Ты ещё спрашиваешь? Я только куртку возьму.
Кэрон кивает, и я спешу в дом.
– Прости, Мали, – мямлит Рыг, когда я прохожу мимо. – Ты в моей жизни – всё.
Ага, конечно, – думаю я, в который раз повторяя себе одни и те же вопросы.
Если я в твоей жизни всё, то почему тогда ты всегда пьян? Ты думаешь, что смерть жены даёт тебе право плевать на всё? Ну, знаешь! Твоя жена была мне мамой.
Я накидываю капюшон, хватаю куртку с вешалки и бегу к мотоциклу.
Кэрон заводит двигатель. А я краем глаза замечаю, как Рыг перегибается через перила крыльца, держась за голову.
В моём сердце смешиваются обида, боль, сочувствие. Ну, как же так? Мне жаль его. Мне всё-таки жаль его. Я бы не хотела быть таким слабаком.
– Поехали… – говорю я, похлопав Кэрон по плечу.
Кэрон переключает передачу и даёт газу. Мотоцикл чавкает по мокрому снегу с грязью, и мы уезжаем.
***
Спустя полчаса мы подъезжаем к старому заброшенному дому с заколоченными окнами на вершине голого холма. Я дрожу. У меня онемели пальцы рук и заложен нос.
– Как насчёт чашечки горячего шоколада? – спрашивает Кэрон, стаскивая шарф с обветренных губ.
– Ага, с круассаном, пожалуйста! – ухмыляюсь я, спрыгивая с байка.
Кэрон молча открывает дверь.
Мы входим в деревянный дом с потемневшими стенами. Тут и там на косяках дверей отлипли кусочки сухой краски. Но в доме тепло и уютно. В гостиной с деревенской мебелью и объеденными молью пледами слабый свет догорающих углей в камине.
– Я развела костёр заранее. Только не смей думать, что я такая заботливая, – говорит Кэрон, будто отвечая на мой безмолвный вопрос. – Мне просто самой было жутко холодно.
Она садится на корточки перед камином и подкладывает заготовленные поленья в тлеющие угли.
– Как скажешь, – говорю я с улыбкой, усаживаясь на тёплый пол рядом.
– О чём ты хотела поговорить?
– Не спеши. Сначала согреем тебя. Твоя куртка не годится даже для летней прогулки. Снимай – быстрее согреешься. А я за шоколадом.
Кэрон выходит из комнаты, а я сижу, разинув рот.
Что сегодня со всеми происходит? Сначала Рэг готовит завтрак с брокколи. Брокколи! Где он её вообще достал? Никто не приходил ни утром, ни вчера. А теперь Кэрон угощает горячим шоколадом – просто чтобы согреться. Ну и денёк.
— Теперь только подождать, пока шоколад растает, — протягивает Кэрон, входя в комнату с большой железной чашей, двумя стаканами и буханкой свежего белого хлеба.
Она ставит чашу на тлеющие угли и протягивает мне хлеб.
— Ага… Но скажи, что всё в порядке, — прошу я, сглатывая слюну от запаха свежей корки.
Кэрон замирает, глядя в сторону.
— Мать стреляла в меня прошлой ночью.
Я широко раскрываю глаза, но молчу.
— Она не хотела ни убить, ни ранить, — продолжает Кэрон. – Просто вспышка гнева. А я оказалась на линии огня.
Она оттягивает рукав свитера, показывая перебинтованное запястье. Йод пропитал ткань.
— Что ты… что? — бормочу я, уставившись на бинт.
Кэрон качает головой:
— Психиатр дал маме антидепрессант. Сказал, через день-два всё пройдёт. Через неделю она сможет вернуться к работе. Пока с ней будет жить тётя Хлоя. И я надеюсь, что это «пока» перерастёт во «всегда»…
Она делает паузу.
— Потому что домой я больше не вернусь.
Её голос срывается – и я понимаю: решение уже принято. Отговаривать бесполезно. Это ведь Кэрон. Но меня тревожит её настрой. Не задумала ли она что-то безумное?
– Если хочешь, можешь остаться со мной и Рэгом. Жить у нас в гараже, – бормочу я, наконец подобрав слова. – Он, конечно, алкаш и психопат… но тебя не тронет. Думаю, смогу уговорить его пустить тебя в дом. Он ведь знает, что ты мне не чужая.
– Нет. Это не вариант. И именно об этом я хотела с тобой поговорить, – отвечает Кэрон без тени сомнения.
Она опускает рукава свитера, берёт за железную ручку чаши. И уже через миг у моих ног стоят два стакана густого горячего шоколада.
– Завтра мы с Джошем уезжаем, – бросает Кэрон. – Я сыта по горло всем этим… – она на секунду замолкает, будто проглатывая какую-то мысль, но быстро приходит в себя. – … – … Мне надоело быть рабой. Нам врут, что мы «можем сменить профессию», «можем попробовать себя». Чушь! Мы ничего не можем. У нас тут один выбор – ферма или дальнобой. Чтобы стать инженером или программистом, нужна учёная степень. А какая, к чёрту, учёная степень после сельской школы? Для таких, как мы выбора в этой системе нет. А значит – пошла эта система к чёрту!
Кэрон отламывает щепку от полена и с силой бросает её в камин. Огонь брызжет искрами.
– Обидно то, что я бы справилась даже в этой системе… если б только в семье всё было нормально.
Она закрывает глаза, и в оранжевом свете я вижу, как напрягаются её скулы.
– Ты хочешь сказать, что… – я подбираю слова после долгой паузы, – то, что твоя мама стреляла в тебя, не считается нормальным?
Кэрон смеётся, протирая глаза запястьями. – Она ведь промахнулась.
Я рада, что мне удалось хоть немного поднять ей настроение.
Но уже через мгновение Кэрон снова смотрит прямо на меня. Её тёмно-карие глаза, как всегда, полны решимости.
– Завтра в десять утра мы уедем во Флориду. У нас есть деньги и еда на два месяца в палатке. Решили, что на юге будет проще. Ты с нами?
Я не знаю, что сказать. Всю жизнь я мечтала увидеть мир: любая поездка дальше ста миль от нашей фермы казалась целым приключением. Да и Рэг меня уже достал. Но мысль о том, чтобы уехать насовсем, да ещё завтра, – пугает. Внезапно я думаю о Рэге. Алкаш, да, но всё-таки он вырастил меня. Когда-то он был настоящим папой. Просто он слабак. Просто глушит бутылкой воспоминания о жене и о том, что дочь в нём нуждается.
– Давай я поясню, – добавляет Кэрон, уловив мой испуганный взгляд.
– Мы не предлагаем бросить Крэга навсегда. Но пару месяцев без тебя могут пойти ему только на пользу. Подумай об этом…
Так я и делаю. В следующие часы я почти не разговариваю. Кэрон рассказывает о поездке, о том, как будет здорово пересечь страну с севера на юг, наконец-то стать свободными, жить своей жизнью. Но всё, о чём я могу думать, – это насколько ужасен мой выбор.
С одной стороны, Кэрон права: мой побег станет для Крэга уроком. С другой – без меня он может просто отказаться жить дальше. Каким бы несчастным и эгоистичным он ни был, я не готова потерять его.
Внезапно я вспоминаю, как в свете потрескивающего костра блестели глаза Крэга, когда я пела «Останься со мной» Бена И. Кинга. Он всегда любил мой голос. Однажды я заметила, как он подслушивает, когда я тихонько напеваю себе под нос, убирая в гараже. Я больше не пою для него. Но тогда у костра, посреди той лунной ночи, я пела именно ему. Это было вскоре после маминой смерти. Крэг, конечно, был пьян, а я – ребёнком, ничего не понимавшим. Или, может, просто верившим, что всё будет хорошо. Но самое странное, что, может быть, эта вера у меня всё ещё есть…
***
Когда на землю опускаются сумерки, мы возвращаемся на ферму. Я прошу Кэрон остановить байк за рощей, у ручья, чтобы немного побыть наедине с собой.
– Ты уверена, что с тобой всё будет в порядке? – спрашивает она, едва я спрыгиваю с сиденья.
– А то! Я уже большая девочка! Просто хочу прогуляться.
Мой голос дрожит, но я поднимаю подбородок и улыбаюсь.
– Хорошо, большая девочка. Тогда я поехала. Джош скоро вернётся к себе, возможно, ему понадобится помощь. Там какие-то проблемы с электроникой, и нам ещё нужно успеть загрузить фургон. Не забудь! Мы будем тебя ждать. Но если ровно в десять утра тебя нет на месте, мы едем сами.
Кэрон смотрит на меня с улыбкой, а я могу только обнять её, опустив глаза.
– Я люблю тебя, девочка, – говорит она, будто зная, что мой ответ будет «нет». – Береги себя.
– И я тебя люблю.
Кэрон переключает передачу, и её мотоцикл с рёвом трогается с места.
– Передавай привет Джошу! – кричу я ей вслед.
Я никогда не встречалась с Джошем. Но для Кэрон он – самый крутой человек на свете. И она так много рассказывала ему обо мне, что Джош уже стал звать меня своей сестрёнкой.
Кэрон вытягивает руку в сторону и показывает поднятый вверх большой палец.
Я смотрю, как её байк исчезает за холмом, делаю глубокий вдох и поворачиваюсь лицом к нашему одинокому дому.
В окне на первом этаже горит тёплый свет. Значит, Крэг не пил. Если бы он был пьян, в окне мерцал бы телевизор.
Когда Крэг трезв, у нас появляется обманчивое ощущение семьи. В такие дни я сижу на кухне или молча мою полы, а он обычно возится в гараже. Он инженер-электрик и любит мастерить всякие гаджеты, особенно разного рода контроллеры. И, признаться, иногда он меня удивляет: у нас можно завести машину из дома, включить микроволновку с поля или наполнить ванну, не вставая с кровати. Наверное, я бы даже гордилась им, если бы он был такой всегда.
Сейчас у Крэга новая идея-фикс – создать контроллер, который сможет зажечь его зажигалку с большого расстояния. По-моему, затея странная. Крэг уверяет, что у гаджета много полезных применений: можно и костёр развести, и сигнал подать. Но на самом деле он просто хочет отомстить.
Две недели назад, когда Крэг покупал запчасти для нашего самоходного трактора в городке Де-Мойн, кто-то украл его байк вместе с зажигалкой моего дедушки. Крэгу пришлось идти больше дня в своём шлеме-трубе, который он надевает каждый раз, выходя из дома после смерти мамы. Я тогда очень за него переживала – чувство для меня редкое. Но я знала, что если с его байком что-то случится, Крэг никогда никого не попросит подвезти его. Вернувшись, он выпил бутылку пива и сказал, что в следующий раз преподаст вору урок.
Представляя, как работает замысел Крэга, я вздрагиваю – то ли от мысли о том, что у кого-то горят штаны, то ли от осознания, что у нас и правда нет других способов защититься. Мир, в котором мы живём, жесток. У нас нет ничего, кроме наших семей.
Я опускаю взгляд на тёмную сырую землю под ногами. Моё тусклое отражение в небольшой луже напротив будто смотрит на сумеречные облака. Я вспоминаю себя ребёнком, улыбаюсь и прыгаю обеими ногами в воду. Грязные брызги летят во все стороны, а на моём лице сияет улыбка. Как же здорово вернуться в детство – пусть даже всего на мгновение.
Наперегонки с судьбой
Входная дверь приоткрыта. Я осторожно снимаю обувь, вешаю куртку на крючок и на цыпочках подкрадываюсь к гостиной.
Крэг сидит на диване в рабочих очках, склонившись над кофейным столиком. Он паяет что-то похожее на маленькую материнскую плату с крошечными микросхемами.
Я прислоняюсь щекой к деревянной двери и чувствую, как на моём лице появляется улыбка. «Это мой папа», – шепчу я мысленно, когда замечаю окровавленную повязку на его левом предплечье.
– Что-о с рукой? – спрашиваю я, заикаясь.
Крэг поднимает глаза. Его рабочие очки слегка сдвинуты набок.
– А, ты об этом? – отвечает он, постукивая пальцами по левому предплечью. – Просто порез. Не переживай. Я буду осторожен впредь.
Рана не похожа на простой порез. Выглядит как укус волка. Но тогда почему Крэг не предупредил меня? Я уверена, что он сказал бы мне, если бы в округе была стая. Что-то здесь не так… Но я не в настроении давить на него сейчас. Мне не хочется терять это ощущение семьи.
– Ты уже поужинал? – спрашиваю я.
– Нет, – отвечает Крэг.
Его запавшие глаза становятся немного шире.
– Я надеялся, что мы поедим вместе. Я всегда на это надеюсь… – добавляет он, и дыхание его прерывается.
– Было б круто, – отвечаю я. Крэг словно каменеет, уставившись на меня.
– Дай мне минутку. Всё уже готово, – наконец выговаривает он, приподнимаясь с дивана.
– Ты чего вскочил? Чини свою зажигалку. Я сама накрою на стол.
Глаза Крега сверкают. Его ноги подкашиваются, он садится на диван и потерянно кивает.
Я подмигиваю и иду на кухню.
***
Ужин – просто объедение. Крэг запёк тушку курочки с овощами. Здесь и маринованный перчик, и морковка с помидорками из банки. Всё такое сочное, такое домашнее. И пусть сервировка не как в ресторане, но я наслаждаюсь каждым кусочком.
– Нужно чуть больше перца, да? – спрашивает Крэг, когда я кусаю мясо и чувствую, как кисло-сладкий сок растекается у меня за щеками.
– Не знаю… по-моему, просто офигенно, – бормочу я с полным ртом, указывая глазами на телевизор.
– А, да, – подхватывает Крэг и берёт пульт дистанционного управления.
Уже семь, а значит, на «Панамериканке» должны показывать музыкальное шоу с Бродвея под названием «Голоса улиц». Обычные люди из толпы, те, кому повезло оказаться на Бродвее, поют хиты прошлых лет, конкурируя за поездку во Флориду, чемодан денег или, как сейчас, за место в новой ритм-н-блюз группе.
Это моё любимое шоу. Каждый раз мне кажется, словно я там, в Нью-Йорке, одна из девушек в толпе. Я представляю себя в прошлом – когда Нью-Йорк был центром жизни всего мира. Мне нравится это чувство. А ещё здорово просто слушать музыку. Ведь кроме радио и этого шоу, у нас ничего нет.
До пандемии у всех были свои компьютеры, ноутбуки, смартфоны. В наши дни такие гаджеты есть только у богатых. Система, в которой мы живём, не создана для персональных развлечений. Лишь несколько огромных корпораций, таких как «Н-Уай Дримленд», контролируют индустрию досуга. На них работают тысячи людей. Это самый настоящий конвейер талантов. Сегодня тебя любят все, а завтра ты забыт. Наверное, такова правда жизни.
Но всё же я люблю «Голоса улиц». В этом шоу есть что-то особенное, что-то живое.
Крэг жмёт кнопку на обмотанном изолентой пульте – и телевизор оживает. Но вместо бродвейских огней на экране проступают очертания тёмного города. Вид будто с беспилотника. Бегущая строка сообщает: в Кейп-Корале сегодня снова стрельба.
«Кейп-Корал… это же на юге», – вспоминаю я. Там, куда направляются Кэрон и Джош.
– Когда-нибудь эти стены не выдержат, – выдыхает Крэг, прикрывая глаза забинтованной рукой. Он уже тянется переключить канал.
– Не переключай! – взвизгиваю я.
Рэг дёргается, едва не роняя пульт.
Картинка сменяется студией. Ведущая продолжает монотонным голосом.
Группа молодых людей от семнадцати до двадцати четырёх лет напала на блокпост спецназа у восточных ворот территории Кейп-Корал. Беглецы были вооружены ножами, обрезами и самодельными гранатами. Убив двоих офицеров, они двинулись к мосту Эдисона, где их окружили и нейтрализовали спецназовцы. Однако пока неизвестно, удалось ли кому-то уйти. Учитывая риск распространения ОВИ-24, Канцелярия Надзирателей объявила карантин на севере Форт-Майерса. В ближайшие часы силы специального назначения будут прочёсывать опасную зону.
На экране вновь появляется пустынный город. Но теперь картинка раскрашена в фиолетово-синие тона, с яркими красно-оранжевыми пятнами – инфракрасное изображение. Так беспилотники выслеживают людей: надзиратели обесточивают район, и любой существенный источник тепла сразу считается человеком.
– Не волнуйся, кроха. Здесь мы в безопасности, – говорит Крэг, когда ведущая новостей задаёт вопрос офицеру спецназа. – Но быть во Флориде я бы сейчас не хотел…
Я колеблюсь. Кэрон и Джош не просто так никому не сказали о своих планах. Мне тревожно. Карантин – это практически приговор. Любой, кто потенциально опасен, обречён жить за стеной. Исключений нет. Если у человека положительный тест на ОВИ, вся семья отправляется на территорию. Были случаи, когда даже надзиратели, несмотря на их иммунитет, оказывались там. Правило жестокое. Бессердечное.
Поэтому моя мама для меня герой. Не знаю как, но ей удалось скрыть наше существование от надзирателей. Она написала об этом в последнем письме. Но Крэг запрещает читать его, пока мне не исполнится двадцать. Каждый раз, вспоминая это письмо, я злюсь на Крэга. Но не сейчас. Сейчас мне нужен его совет. Я понимаю, что он алкоголик и слабак, но всё же он повидал жизнь. Он был морпехом, пережил хаос пандемии, защитил свою беременную жену и сумел построить семью на руинах погибшей цивилизации. И пусть у меня не самая счастливая семья, но ведь я жива. Я есть. И это благодаря ему.
Я нервничаю. Наверное, впервые в жизни я думаю о том, чтобы поделиться с Крэгом секретом. Но мне нужно знать, будут ли мои друзья в безопасности.
– Кэрон и Джош… – начинаю я, кашлянув, чтобы прочистить горло, – завтра утром они уезжают во Флориду. Как думаешь, там всё уляжется, пока они в пути?
Я делаю паузу. Крэг опускает подбородок и поворачивает лицо в мою сторону.
– Зачем они туда едут? – спрашивает он, нахмурив брови.
– Просто, – огрызаюсь я.
Рэг встаёт из-за стола, поворачивается к раковине и опирается на неё обеими руками. Его голова втягивается в плечи, словно его сводит судорогой.
– Ты ведь не думаешь присоединиться к ним? – сдержанно спрашивает он.
Я чувствую, как внутри меня закипает странная энергия.
– А что, если и так? – произношу я, выделяя каждое слово.
– Ты даже не представляешь, какое там зло, – отвечает Рэг.
Голос у него спокойный, но тело дрожит.
– Я знаю, какое зло здесь, – шиплю я в ответ.
Рэг сжимает края раковины. Его мышцы напрягаются, руки дрожат. Я остаюсь спокойной: видеть такое мне не впервой.
Через минуту Рэг отпускает раковину, достаёт из кухонного ящика по правую руку металлическую флягу, делает несколько жадных глотков, и будто чувствует облегчение. Но это не так. Он судорожно вдыхает и с силой ударяет забинтованной рукой по столу. Моя тарелка и вилка громко звякают друг о друга.
Я немею. Ну почему он не может просто сказать? Глаза наполняются слезами. Но всё, что я могу, – это молча качать головой.
– Уходи к себе, – говорит Рэг, когда дыхание выравнивается.
– Даже не думай ехать во Флориду или куда-либо ещё. Я заблокирую трактор и машину. Пожалуйста, не делай глупостей.
– Ты больной! – наконец взрываюсь я. – Жалкий пьяница! Мне тебя больше не жаль!
Я плачу.
– Пожалуйста, Мали, послушай меня. Я твой отец, – бормочет Рэг, не глядя на меня.
– Никакой ты мне не отец. Рыг вонючий. Я ненавижу тебя! – яростно кричу я и выбегаю из кухни.
***
В своей комнате я падаю на кровать, зарываюсь лицом в подушку и рыдаю без остановки.
Почему я не осталась с Кэрон? Зачем вернулась к этому монстру, в эту бессмысленную жизнь у чёрта на куличках? Я хочу сбежать с Кэрон.
Едва я осознаю свою ошибку, как слёзы высыхают. Я сажусь на угол кровати и оглядываю комнату. Вещей у меня немного: кровать с тёплым одеялом и толстой подушкой, несколько детских игрушек, открытый деревянный письменный стол, стул, пара книжных полок, заставленных потрёпанными томами, ящик со всякой всячиной, шкаф с сезонной одеждой и настенная чёрно-белая фотография Эмпайр-стейт-билдинг, окружённая маленькими картинками Нью-Йорка – Бруклинский мост, Шерри-Незэрлэнд и, конечно, башни Всемирного торгового центра. Вот и всё. Моя комната – и есть моя жизнь.
Но я могу это изменить. Я должна попробовать. Кэрон и Джош ждут меня до десяти утра. Значит, у меня ещё есть время. Мне нужно только выбраться из дома.
Я спрыгиваю с кровати, ставлю будильник на 3:25 и начинаю собираться.