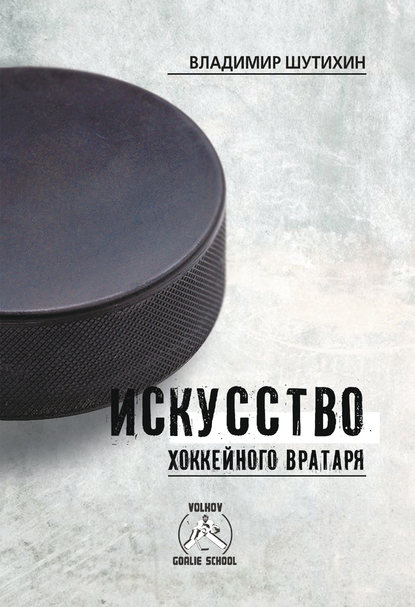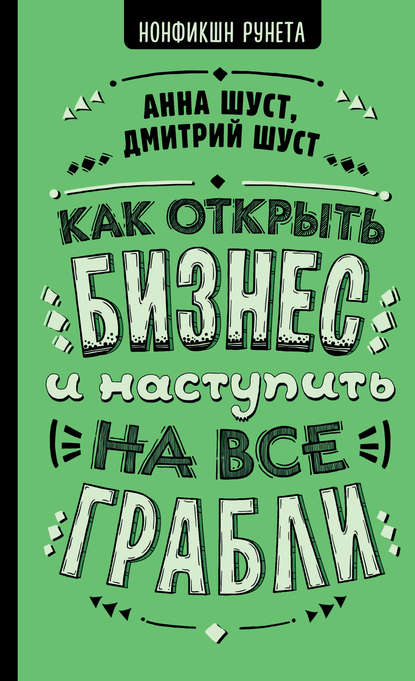Коллекционер бабочек в животе 3

- -
- 100%
- +
Ренато резко развернулся к большой картонной коробке в углу, где хранились драпировки и остатки тканей. Порывистым движением он снял крышку, и на мгновение в воздухе повис запах нафталина, крахмала и старой пыли – запах времени и забытых проектов. Его руки, почти без участия разума, вытянули оттуда большой отрезок неотбелённого грубого льна. Он был простым, чуть шершавым, цвета пыльной земли, как идеальная противоположность и в то же время идеальная пара для тёмного, испещрённого трещинами дерева маски.
– Ti prego, mettitela ancora (с итал. – Я прошу тебя, надень её ещё раз), – попросил он, и в его голосе снова зазвучала та самая алхимическая плотность. – E permetti mi (с итал. – И позволь мне)… – Ренато не закончил, но его взгляд, тёмный и непроницаемый, вынес ей приговор и даровал милость одновременно. Он ждал.
Марта поняла всё без слов. Она надела маску, и её пальцы, вдруг показавшиеся ей неуклюжими и чужими, потянулись к замку на шее. Шорох ткани, спадающей с плеч, прозвучал в тишине комнаты оглушительно громко. Платье мягко упало к её ногам, образуя тёмное облако на светлом полу. Она стояла перед Ренато в тонком шёлке нижнего белья, и её кожа покрылась мурашками от вечерней прохлады и его пристального взгляда. В этом не было ни стыда, ни вызова, а лишь обнажённая, трепетная правда, доверенная ему.
Ренато приблизился. Его руки с грубой тканью поднялись, чтобы не одеть, а облечь её. Шершавый, холодный лён коснулся её горячей кожи, и Марта непроизвольно вздрогнула. Он набросил ткань ей на плечи, позволив тяжёлым складкам обвить стан, упасть на бёдра. Он драпировал её с интимной точностью скульптора, знающего каждый изгиб мрамора. Полотно скрыло одно, чтобы оттенить другое: оно открыло хрупкую линию ключицы, изгиб плеча, намекнуло на скрытую грудь, обрисовало бедро. Грубость ткани делала кожу Марты невероятно нежной и живой, а её абсолютная покорность его воле заставляла сердце Ренато биться с безумной силой.
Он отступил на шаг, и воздух вырвался из его лёгких с резким, свистящим звуком. Тело Марты, живое и трепетное, облачённое в простейшую ткань, и её лицо, за деревянной личиной, хранящей тысячу историй. Сокрытое и обнажённое одновременно, интимное до боли – это было именно то, что он хотел.
– Non muoverti (с итал. – Не двигайся), – его голос сорвался на хриплый шёпот, в котором смешались сдерживаемое желание и творческий экстаз. Он видел уже не Марту, а готовый холст и он должен был его заполнить.
…Портрет был закончен за неделю. Неделю, стёршую границу между ночью и днём, между голодом и насыщением краской. Ренато писал с яростью алхимика, торопящегося завершить Великое Делание. Он смешивал краски с каплями скипидара, чтобы они схватывались быстрее, работал широкими кистями по фону и тончайшими – по трещинам на маске, почти не отходя от холста. Он не писал портрет, он сплавлял его из воздуха, света и того тихого безумия, что стояло в мастерской вместе с ними. И теперь работа была готова, невысохшая до конца, живая, дышащая парами лака и страстью.
Портрет получился больше роста Марты и стоял на полу, прислонённый к стене, ещё пахнущий свежим лаком и тишиной. Ренато отступил на шаг, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, придирчиво разглядывая собственное творение. На полотне Марта стояла в полный рост, грубый лён падал с одного плеча тяжёлой складкой, открывая хрупкую ключицу и изгиб спины. Ноги были босыми, пальцы слегка вжаты в полированные доски, хранившие прохладу и память прикосновений. И над всем этим маска: деревянная, тёмная, с прорезями, в которых угадывался не взгляд, а само отсутствие. Фоном служил сгусток теней и света – библиотека забытых снов, где ультрамариновые провалы ночного неба просвечивали сквозь золото корешков.
Марта молча смотрела на своё отражение в красках. Она дышала ровно, но Ренато видел, как трепещет жилка на её шее.
– Тебе так же нравится как и мне? – спросила она тихо, не глядя на него.
Он не ответил сразу. Он смотрел на портрет и ловил странное чувство. Ему не хотелось подбирать для этого образа бабочку.
– Это правда, – наконец выдохнул он. – Это самая откровенная правда, что я когда-либо писал, – и это была не просто правда линий и света. Это была правда времени, которое они провели в этой мастерской вместе и порознь. Марта приходила утром, на два-три часа, замирая в лучах света, падающих из окна. Её присутствие было интенсивным и плотным, как густая масляная краска: Ренато впитывал каждую деталь, каждый оттенок её кожи под льном, каждый лукавый блик в прорези маски. А потом она уезжала: на встречи, к мужу, просто в магазин или просто, чтобы дать ему возможность сконцентрироваться. Но её отсутствие было лишь иллюзией. Оно витало в комнате, смешиваясь с запахом скипидара и масляной краски. Он работал в одиночестве часами, прописывая фон, ткань, абрис тела, и она была с ним – в памяти его пальцев, помнивших изгиб её плеча, в сетчатке глаз, сохранивших игру света на её щеке. Он писал не с натуры, а с впечатления, сплавляя воедино реальность и воспоминание, пока они не становились неразделимы, как слои лессировки на старом мастерском полотне.
Неделя прошла именно так – в ритме её приходов и уходов, в напряжённом диалоге молчания и творчества. И теперь, глядя на готовую работу, Ренато понимал, что написал не просто Марту. Он написал их время – те четыре месяца, за которые он изучил изгибы её души так же пристально, как сейчас линии её тела; месяцы, когда тишина между ними стала громче слов, а доверие глубже страсти.
Марта долго смотрела на портрет.
– И как ты его назовёшь? – спросила она наконец.
– «Палимпсест».
– Почему?
– Потому что я боялся стереть верхний слой. А вместо этого… прочёл то, что было под ним.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.