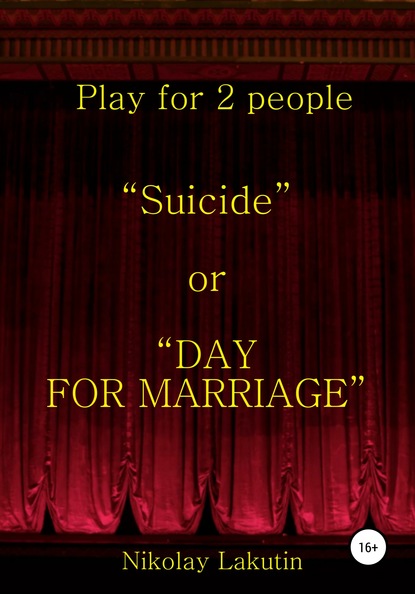Настоящая Мэгги

- -
- 100%
- +
Глава четвертая
Дождь в Лос-Анджелесе был событием. Он не успокаивал город, а наоборот, вскрывал его нервную систему, смывая с него лоск, обнажая трещины в асфальте и в душах. Мэгги стояла у окна, наблюдая, как капли стекают по стеклу, словно слезы гиганта. В доме было непривычно тихо. Джек уехал на выходные к отцу, и эта пауза обнажила хрупкость нового уклада, который они начали выстраивать.
Их поход в зоопарк, несмотря на все ее громкие заявления, оказался не триумфом, а полем боя. Папарацци, как и предсказывал Джек, были повсюду. Они прятались за киосками с мороженым, выскакивали из-за вольеров с обезьянами, их вспышки пугали Дейзи, которая вжималась в Мэгги, и раздражали Джека, который то и дело бормотал: «Я же говорил». Мэгги пыталась игнорировать их, сосредоточившись на детях. Она показывала Дейзи на слонов, смеялась вместе с Джеком над уморительными рожами мартышек. Но внутри все сжималось от бессильной ярости. Даже здесь, среди слоновьей травы и птичьего гомона, она была на сцене. Ее попытка быть «просто семьей» сама стала спектаклем.
И все же, среди этого хаоса, были искорки настоящего. Когда Дейзи, забыв о страхе, указала пальчиком на жирафа и издала первый осмысленный звук на английском – «Высоко!» – сердце Мэгги екнуло. А когда Джек, увидев ее восторг, снисходительно улыбнулся и сказал: «Ну, жирафы и правда высокие», между ними пробежала тонкая ниточка понимания. Это была не победа, но перемирие.
Теперь, в тишине дождливого дня, она осталась наедине с Дейзи. Девочка сидела на полу в гостиной, которую Мэгги начала потихоньку «разжаловать» из статуса музея. Исчезли хрустальные безделушки, уступив место коробке с деревянными кубиками. Снятые со стен постеры сменила неумелая, но яркая акварель Джека, нарисованная им в далеком первом классе.
Дейзи играла молча, методично переставляя кубики с места на место. Ее тишина была не пугающей, а сосредоточенной, глубокой. Она была похожа на отца Мэгги, того самого учителя математики, который мог часами решать задачу, не проронив ни слова. В этой молчаливой сосредоточенности была какая-то древняя, недетская мудрость. Иногда Мэгги ловила себя на том, что смотрела на дочь не как мать, а как на загадку. Кем была эта девочка до того, как оказаться в приюте? Какие глаза смотрели на нее с нежностью в первые месяцы ее жизни? Эти вопросы висели в воздухе, не требуя ответа, но навсегда оставаясь частью Дейзи, частью их общей истории.
Телефон снова разорвал тишину. Мэгги вздрогнула. Но на этот раз это был не Алан. На экране горело имя, которое она не видела годами: «Сьюзан». Мать.
Пальцы сами собой сжались. Кровь ударила в виски. Она не брала трубку, слушая, как голос на автоответчике звучал неестественно бодро: «Мэгги, дорогая, это мама. Я видела тебя в новостях… с малышкой. Она прелесть. Я хочу увидеться. Позвони мне».
Голос был гладким, профессиональным, точно таким, каким она, должно быть, разговаривала с агентами и студиями. В нем не было ни трепета, ни раскаяния, лишь деловая заинтересованность. Мэгги отключила автоответчик. Призрак прошлого, который она пыталась унести ветром со скал Средиземноморья, нашел ее и здесь.
Она подошла к Дейзи, села рядом на пол, прислонившись спиной к дивану. Девочка, почувствовав ее близость, отложила кубик и пристроилась к ней под бок, как маленькое животное. Мэгги обняла ее, прижалась щекой к ее мягким волосам, вдыхая чистый, простой запах детского шампуня.
– Знаешь, что мне сегодня приснилось? – тихо сказала она, больше себе, чем Дейзи. – Мне приснилась моя мама. Та, что ушла. Она приходила к нам в гости. И улыбалась. Но ее улыбка была… как у меня на той фотографии. Пустая.
Дейзи подняла на нее свои бездонные глаза. Она, конечно, ничего не поняла из слов, но уловила интонацию – грустную, разбитую. Она протянула руку и ладонью коснулась щеки Мэгги, поймав одну-единственную слезу, которая все же вырвалась и скатилась вниз.
Этот жест, простой и инстинктивный, стал для Мэгги откровением. Она потратила жизнь на то, чтобы вызывать слезы у миллионов зрителей, выжимая их искусной игрой. А эта девочка, не сказав ни слова, остановила ее собственную, самую настоящую слезу.
Внезапно Дейзи встала, подошла к своему рюкзачку, который Мэгги купила ей перед отъездом из Китая, и достала оттуда смятый листок бумаги. Она принесла его Мэгги и торжественно протянула. Это была та самая вырезка о ее матери, Сьюзан. Ту самую, что кто-то прислал ей анонимно и что унес ветер в Средиземноморье. Мэгги нахмурилась. Она была уверена, что выбросила ее. Как она оказалась среди вещей Дейзи? Девочка что-то подобрала? Или… это был тот самый знак, который она тогда проигнорировала, но который, как бумеранг, вернулся к ней через дочь?
Она взяла пожелтевший клочок бумаги. Он был старым, датированным годом ее собственного оглушительного успеха с «Когда Гарри встретил Салли». В статье ее мать, Сьюзан, давала комментарий о новых тенденциях в кастинге. И в конце, словно мимоходом, репортер спросил ее о знаменитой дочери. Ответ был выдержан в духе Голливуда: «Я невероятно горжусь Мэгги. Она доказала, что настоящий талант пробьет себе дорогу сам». Ни слова о том, что это она, Сьюзан, открыла ей дверь. Ни слова о чувстве вины. Ни слова о четверых детях, оставленных в Коннектикуте. Чистейший, беспримесный пиар.
Мэгги скомкала бумагу, готовая снова выбросить ее, но рука не поднялась. Вместо этого она разгладила листок на колене и показала на фото матери Дейзи.
– Это… бабушка, – медленно произнесла она, чувствуя странный привкус этого слова на языке. – Моя мама. Она… далеко.
Дейзи внимательно посмотрела на фото, потом на Мэгги, и снова на фото. Затем она положила свою маленькую ладонь поверх руки Мэгги, точно так же, как тогда, в приюте, когда дотронулась до браслета. Это был не вопрос, не просьба. Это было принятие. Принятие того, что у ее новой матери есть свое, сложное, полное боли прошлое. И она, Дейзи, готова быть частью этого прошлого, какой бы она ни была.
В этот вечер Мэгги не стала готовить ужин на идеальной кухне с видом на бассейн. Она заказала пиццу. Они с Дейзи ели ее, сидя на полу в гостиной, на большом мягком ковре, крошки сыра падали на дорогой персидский орнамент. По телевизору шел старый мультфильм. Дейзи смеялась над глупыми героями, и ее смех, звонкий и заразительный, впервые по-настоящему наполнил этот стерильный дом.
Когда Дейзи уснула, Мэгги не стала уносить ее в кровать. Она осталась сидеть на полу, в круге света от торшера, глядя на спящее лицо дочери. Она думала о звонке матери. О вырезке. О цикле, который, казалось, замыкался. Ее мать сбежала от семьи к карьере. Она сама сбежала от карьеры к семье. Но бегство ли это было? Или, наконец, прибытие?
Она взяла свой телефон. Не для того, чтобы позвонить Сьюзан. Не для того, чтобы ответить Алану. Она открыла заметки и начала печатать. Сначала медленно, потом все быстрее. Это не был сценарий. Это не была журналистская статья. Это были обрывочные мысли, воспоминания, ощущения. О том, как пахнет мел на пальцах отца. О том, как больно режет слух хлопок двери. О том, как пусто звучат аплодисменты, когда за ними ничего нет. И о том, как тяжесть детской головки на плече может стать самым прочным фундаментом в жизни.
Она писала не для кинозала, не для зрителя. Она писала для себя. И для Дейзи. Чтобы когда-нибудь, когда дочь вырастет, она могла бы понять, кем была ее мать. Не той, что на экране, а той, что сидела на полу в дождливую ночь, среди крошек пиццы и обломков старой жизни, и пыталась собрать из них что-то новое. Что-то настоящее.
За окном дождь стих. В разрывах туч проглянула луна, отбрасывая на пол призрачный серебряный свет. Мэгги отложила телефон, прилегла рядом с Дейзи и закрыла глаза. Тишина больше не была гробовой. Она была живой, наполненной ровным дыханием ее дочери. И в этой тишине, наконец, зазвучал ее собственный, не наигранный голос. Голос матери. Голос женщины. Голос человека, который больше не боялся остаться наедине с собой. Потому что она была не одна. И это было главным кадром ее новой, самой важной роли. Роли по имени Мэгги.
Глава пятая
Идиллия, хрупкая и выстраданная, длилась ровно шесть недель. За это время дом в Беверли-Хиллз постепенно терял лощёный блеск и приобретал черты жилого пространства. На мраморной столешнице кухонного острова поселилась пластилиновая змея, слепленная Дейзи. На идеально отполированном паркете теперь вечно валялись детские книжки с яркими картинками. А главное – в доме появились звуки: негромкий лепет Дейзи, осваивающей новые слова, и смех Мэгги, который наконец-то научился вырываться без разрешения режиссера.
Именно в этот момент судьба, словно завидуя их покою, постучала в дверь. Сначала вежливо, а затем настойчиво.
Письмо пришло от её продюсерской компании, созданной когда-то для «штамповки счастья». Официальный бланк, сухой юридический язык. Название проекта – «Венецианский эскиз». Тот самый «Роман в Венеции», от которого она отказалась год назад. Студия, пользуясь старыми контрактными обязательствами, выдвигала ультиматум: либо Мэгги возвращается к работе, либо компания будет ликвидирована с колоссальными финансовыми потерями для нее лично. Прилагался счет – астрономическая сумма, которую она должна была выплатить в случае срыва проекта.
Алан, разумеется, воспользовался моментом.
– Мэг, детка, это же знак свыше! – голос его звенел торжеством. – Они сами идут к тебе навстречу! Сценарий переписали, сделали его… глубже. Героиня – мать-одиночка, которая усыновляет ребенка и находит любовь в Венеции. Это же твоя жизнь! Только с хэппи-эндом, который все ждут!
Мэгги сидела на полу в гостиной, строя с Дейзи башню из кубиков. Она смотрела на дочь, которая с серьезным видом водружала последний, шатающийся кубик, и чувствовала, как почва уходит из-под ног. Они не просто хотели, чтобы она вернулась. Они хотели проглотить ее новую жизнь, перемолоть в голливудский фарш и подать под соусом сентиментальной комедии. Ее боль, ее прозрение, ее Дейзи – все должно было стать частью декораций.
– Я не могу, Алан, – тихо сказала она. – Я не могу играть в то, что проживаю по-настоящему.
– Да никто не просит играть! Будь собой! Публика обожает историю твоего усыновления! Это же готовый пиар-ход!
В этот момент башня, которую строила Дейзи, с грохотом рухнула. Девочка замерла на секунду, ее нижняя губа задрожала, и она разрыдалась – не от испуга, а от обиды за разрушенное творение. Мэгги бросила телефон, даже не попрощавшись, и прижала дочь к себе.
– Ничего, ничего, милая, – шептала она, качая ее. – Мы построим новую. Еще лучше.
Вечером, укладывая Дейзи спать, она заметила на ее ручке красные пятна. Небольшие, но яркие. «Аллергия», – сразу подумала она. На новую еду, на калифорнийские цветы. Но внутренний голос, тот самый, что когда-то подсказал ей лететь в Китай, зашептал тревожно.
На следующее утро пятен стало больше. Они покрывали не только руки, но и щеки. Дейзи была вялой, капризной. Мэгги отменила все планы и вызвала педиатра. Доктор, улыбчивый мужчина с руками, пахнущими антисептиком, осмотрел девочку и развел руками.
– Похоже на аллергическую реакцию, миссис Куэйд. Пройдет. Давайте антигистаминное.
Но через день у Дейзи поднялась температура. Невысокая, но упорная. Она отказывалась от еды, ее рвало. Тишина в доме снова стала гробовой, но на этот раз она была наполнена не откровением, а страхом. Ледяным, до дрожи в коленях, страхом.
Мэгги провела с ней всю ночь, измеряя температуру, меняя влажные полотенца на лоб, напевая те самые бессвязные песни, которые когда-то помогали. Но теперь они не помогали. Дейзи металась в полудреме, ее тело было огненным. Впервые за все время Мэгги почувствовала полное, абсолютное бессилие. Она могла убедить студию, могла игнорировать Алана, могла спрятаться от папарацци. Но она не могла остановить эту болезнь, проникавшую в ее ребенка.
Утром, когда температура перевалила за тридцать девять, она, не слушая заверений няни, что «все дети болеют», позвонила своему юристу, Майклу, и потребовала срочно найти лучшего детского иммунолога в городе. Голос ее был тихим, но таким стальным, что Майкл, привыкший к ее актерским капризам, тут же бросил все силы на поиски.
Врач, к которому они попали через три часа, был полной противоположностью первому. Пожилая женщина с седыми волосами, собранными в строгий пучок, и внимательными, безразличными к гонорарам глазами. Ее звали доктор Ирена Вайс. Она осмотрела Дейзи молча, долго и тщательно.
– Это не аллергия, – наконец произнесла она, и ее слова повисли в воздухе, как приговор. – Это вирус. Довольно серьезный. И его осложнения. Ее иммунная система… – Доктор Вайс посмотрела на Мэгги прямо. – Она ослаблена. Среда приюта, стресс от переезда, смена климата… Организм не выдержал.
Мэгги сжала руку Дейзи так, что кости затрещали.
– Что делать?
– Госпитализация. Сейчас. Нужны капельницы, антибиотики, постоянное наблюдение.
Мир сузился до размеров больничной палаты. Стелсркие, выкрашенные в безликий салатовый цвет стены, писк аппаратуры, запах хлорки. Дейзи лежала на высокой кровати, вся в трубках и проводах, маленькая и беззащитная. Ее черные волосы раскидались по белой подушке, лицо было бледным, а те самые красные пятна, теперь уже багровые, казались клеймом.
Мэгги сидела рядом, не отпуская ее руку. Она смотрела, как жидкость из капельницы по капле входит в хрупкое тельце, и думала о том, как нелепо и жестоко устроен мир. Она нашла свою правду, свое «настоящее», и теперь это «настоящее» могло умереть от какого-то безликого вируса.
Алан звонил без остановки. «Мэг, все газеты трубят! «Дочка Мег Райан в больнице!» Это же…» Она выключила телефон. Ей было плевать на газеты. На студию. На «Венецианский эскиз». Все это было пылью, шелухой, мишурой.
Ночью, в полусне, ей почудился запах мела. Тот самый, отцовский. Она открыла глаза, ожидая увидеть его сутулую фигуру на пороге. Но в палате была только медсестра, тихо проверяющая аппаратуру. И тогда Мэгги поняла, что запах был памятью. Памятью о той ночи, когда заболела она сама, в детстве. И отец сидел у ее кровати точно так же, молча, с тем же выражением беспомощной любви и яростной решимости в глазах. Он учил других побеждать, а сам проиграл жене. Но в битве за дочь он не сдался. И она не сдастся.
Под утро температура у Дейзи наконец спала. Доктор Вайс, заглянув в палату, кивнула с едва заметным одобрением.
– Кризис миновал. Но восстанавливаться придется долго.
Когда Дейзи открыла глаза, они были ясными, хоть и уставшими. Она посмотрела на Мэгги и слабо улыбнулась. И в этой улыбке не было ничего от Голливуда. Это была улыбка воина, вышедшего из боя.
Через день их выписали. Мэгги везла Дейзи домой, обернутую в мягкий плед, и думала о том письме от студии. О ультиматуме. О деньгах, которые ей были нужны теперь не для роскошной жизни, а для обеспечения будущего Джека и Дейзи. Для лучших врачей, для безопасности, для права на ту самую «паузу», в которой она так отчаянно нуждалась.
Она зашла в дом, уложила Дейзи спать в их общую кровать и подошла к тяжелому деревянному столу, где все еще лежали страницы недописанного когда-то сценария. Она отодвинула их в сторону. Рядом лежала папка с договором по «Венецианскому эскизу» и письмо от юриста с расчетами убытков.
Она взяла ручку. Не для того, чтобы подписать контракт. И не для того, чтобы писать в свой дневник.
Она начала писать письмо. Обращение к совету директоров студии. Ее голос на бумаге звучал не как голос Мэг Райан, кинозвезды. Он звучал как голос Мэгги Хайра, матери. Она не просила. Она объясняла. Объясняла, что не может играть в любовь на экране, когда все ее силы уходят на то, чтобы отстоять настоящую любовь в жизни. Она предлагала компромисс: не актрису, а продюсера. Она будет курировать проект, поможет найти новую звезду, но сама не снимется. Она писала о цене славы и о цене тишины. Это было самое честное ее выступление за всю карьеру.
Закончив, она не стала перечитывать. Она запечатала конверт и поставила его на видное место. Завтра она отправит его. А сегодня…
Она подошла к кровати, где спала Дейзи, и легла рядом, обняв ее. Девочка во сне повернулась к ней и прошептала свое первое за три дня слово:
– Мама.
Не «Мэгги». Не «тетя». А «Мама».
И Мэгги поняла, что никакая студия, никакие контракты и никакие ультиматумы не имели больше значения. Она проиграла битву с болезнью, но выиграла войну за свое материнство. И это была единственная роль, в финале которой она была готова снять саму себя.
Глава шестая
Тишина после бури оказалась самой громкой. Дейзи поправлялась медленно, день за днем возвращаясь к жизни, как хрупкий побег, пробивающийся сквозь асфальт. Ее смех, сначала редкий и осторожный, снова начал наполнять дом, но теперь Мэгги слышала в нем отзвук недавнего страха. Каждый чих, каждое покраснение на коже заставляло ее сердце сжиматься. Материнство, которое начиналось как акт спасения и любви, обернулось новой формой тревоги – постоянной, тотальной, животной.
Письмо в студию оставалось на столе, как неразорвавшаяся бомба. Ответ пришел быстрее, чем она ожидала. Не официальный конверт, а телефонный звонок от самого главы студии, Майкла Айверсона. Его голос был гладким, как полированный гранит.
– Мэгги, дорогая. Получил твое… послание. Тронут. Искренне. – Он сделал паузу, давая ей понять, что искренность в их бизнесе – понятие относительное. – Но ты должна понимать нашу позицию. Инвесторы верят в тебя. В бренд «Мэг Райан». Твой уход с проекта – это не просто разрыв контракта. Это подрыв доверия ко всей нашей инфраструктуре.
Она стояла на кухне, сжимая в руке кружку с остывшим чаем, и смотрела, как Дейзи на полу пыталась накормить йогуртом плюшевого медвежья.
– Я не ухожу, Майкл. Я предлагаю компромисс. Я буду рядом. Как продюсер.
– Продюсеры не продают билеты, дорогая. Продают звезды. – Его тон стал жестче. – Послушай, я понимаю, у тебя сложный период. Ребенок, здоровье… Но Голливуд – это не благотворительность. Это машина. И если одно колесо решает сбежать, машина ломается. И давит это колесо.
Угроза витала в воздухе, густая и липкая. Она представляла, как эти люди, ее коллеги и партнеры годами, будут методично, через суды и черный пиар, уничтожать ее финансовую стабильность, ее репутацию. Репутацию, которую она, по иронии судьбы, так отчаянно хотела похоронить.
– Мне нужно время, – выдохнула она, чувствуя, как слабеет.
– У тебя его нет, – холодно парировал Айверсон. – Съемки начинаются через восемь недель. Ты либо в строю, либо мы запускаем процедуру взыскания убытков. И поверь, после больничных счетов за дочь тебе не захочется платить еще и нашим юристам.
Он положил трубку. Мэгги опустилась на стул. Давило не только его давление. Давило осознание, что даже здесь, в своем доме, пытаясь защитить свою дочь и свою новую жизнь, она все еще была частью этой системы. Ее свобода имела цену, и цена эта была астрономической.
В этот вечер зазвонил домофон. На экране она увидела знакомое, но неожиданное лицо. Джек, стоявший на пороге с рюкзаком за спиной, выглядел помятым и решительным.
– Мам, я переезжаю к тебе. Насовсем.
Он вошел, не дожидаясь ответа, и бросил рюкзак в прихожей.
– Пап… он не против? – растерянно спросила Мэгги.
Джек пожал плечами, избегая ее взгляда.
– Мы договорились. У него там… своя жизнь. А тут… – он кивком головы указал в сторону гостиной, где Дейзи, увидев его, радостно захлопала в ладоши, – тут, похоже, кипит что-то поинтереснее.
Мэгги хотела обнять его, расспросить, но что-то в его замкнутой позе остановило ее. Он был похож на нее в его возрасте – раненый, но не желающий этого показывать.
Ночью, услышав шум, она вышла из комнаты и увидела свет в кухне. Джек сидел за столом, уставившись в пустоту, а перед ним стоял стакан с водой.
– Не спится? – тихо спросила она, садясь напротив.
Он медленно поднял на нее глаза. В них была та самая «глубокая, недетская мудрость», которую она когда-то увидела в глазах Дейзи.
– Она спрашивала про тебя, – хрипло сказал он. – Та женщина. Бабушка Сьюзан.
Мэгги похолодела.
– Когда?
– Неделю назад. Позвонила папе. Сказала, что хочет наладить контакт. Со мной. Спросила про Дейзи. – Он отхлебнул воды. – Пап сказал, что это не его дело, и передал трубку мне.
– И что ты сказал?
– Что мы справляемся сами. – Он посмотрел на нее прямо. – Это правда? Мы справляемся?
В его голосе была не детская обида, а требование честности. Честности, которой так не хватало в их старой жизни.
Мэгги глубоко вздохнула. Пришло время сбросить еще одну маску. Маску идеальной матери, которая все контролирует.
– Нет, Джек. Не справляемся. Вернее, справляемся, но это очень трудно. И я… я делаю ошибки.
Она рассказала ему. О письме от студии. Об ультиматуме. О деньгах. О своем страхе перед возвращением. Она не приукрашивала и не искажала факты, говоря с ним как с взрослым, потому что он и был им – взрослым, задетым войной между родителями.
Джек слушал молча, не перебивая. Когда она закончила, он долго смотрел на свои руки.
– А что, если… – начал он медленно, – что, если ты не вернешьсь? По-настоящему. Не для пиара, а чтобы… сделать что-то другое?
– Например? – спросила Мэгги, и в ее голосе прозвучала надежда, которую она сама боялась признать.
– Я не знаю. Ты же училась на журналиста. Ты хотела писать о других. Может, пора?
Его слова повисли в воздухе, как семена, упавшие на благодатную почву. Она смотрела на сына и видела в нем не ребенка, а союзника. Человека, который, сам того не зная, протянул ей веревку, за которую она могла ухватиться, чтобы выбраться из ямы.
На следующее утро она разбудила его на рассвете.
– Одевайся. Мы едем.
– Куда? – пробурчал он, сонно протирая глаза.
– Туда, где меня не найдут ни Алан, ни Айверсон, ни папарацци.
Она упаковала в машину Дейзи, Джека и корзину с едой. Они ехали на север, по побережью, пока не свернули на узкую грунтовую дорогу, ведущую к пустынному пляжу, окруженному скалами. Это место она открыла для себя годы назад, вскоре после развода, и хранила его как свой последний секрет.
Ветер здесь был другим – диким, свободным, сдирающим с души все наносное. Дейзи, впервые оказавшись на океане, робко потянулась к набегавшей волне, а затем залилась счастливым смехом, когда вода окатила ее ноги. Джек, сбросив кроссовки, побежал вдоль кромки воды, и его поза, обычно такая напряженная, наконец расслабилась.
Мэгги стояла, подставив лицо соленому ветру, и смотрела на них. На своих детей. Разных, пришедших к ней разными путями, но теперь связанных воедино этим моментом, этим местом.
И тут ее осенило. Идея была настолько простой и очевидной, что она удивилась, как не пришла к ней раньше.
Она достала телефон. Не для того, чтобы звонить Алану или Айверсону. Она открыла браузер и начала искать. Не новые роли, не сценарии. Она искала небольшие независимые студии, продюсерские компании, занимающиеся документальным кино. Она искала контакты издателей, специализирующихся на мемуарах.
Она не собиралась возвращаться в старую систему. Она собиралась построить свою.
Вернувшись домой, загорелые и наполненные морским воздухом, они застали на пороге незваного гостя. Элегантную, подтянутую женщину в белом костюме, с идеальной укладкой и пронзительным, оценивающим взглядом. Сьюзан.
– Мэгги, дорогая, – сказала она, улыбаясь той самой, голливудской улыбкой, что была и на вырезке, и в кошмарах Мэгги. – Решила навестить своих внуков. Не прогонишь же старую мать, правда?
Она стояла на пороге дома, который никогда не был ее домом, и смотрела на Дейзи с холодным любопытством. Джек инстинктивно шагнул вперед, заслоняя сестру.
И в этот момент Мэгги, глядя в глаза женщины, которая когда-то научила ее подделывать счастье, наконец обрела свою настоящую, неподдельную силу. Силу защищать свою семью.
– Здравствуй, Сьюзан, – сказала она, не улыбаясь в ответ. – Проходи. Но предупреждаю, наша жизнь – не сценарий. И хэппи-энд здесь никто не гарантирует.
Сьюзан Хайра-Джордан вошла в дом, как ревизор, сующий нос в чужие декорации. Ее взгляд скользнул по упрощенному интерьеру, по детским игрушкам на полу, по акварели Джека на стене, и Мэгги уловила в нем легкую, почти незаметную брезгливость.
– Уютно, – произнесла Сьюзан, и это слово прозвучало как приговор.
Дейзи, прижавшись к ноге Мэгги, смотрела на незнакомку большими, настороженными глазами. Джек стоял рядом, скрестив руки на груди, – живой щит.
– Чему обязан визит? – спросила Мэгги, пропуская ритуал чаепития. Она не собиралась разыгрывать сцену воссоединения.
– Разве матери нужен повод, чтобы навестить дочь? – Сьюзан присела на край дивана, изящно поправив складки юбки. Ее движения были отточены годами работы в индузии, где каждое действие – это послание.