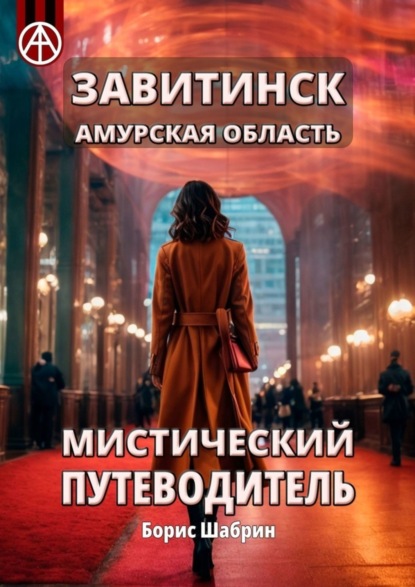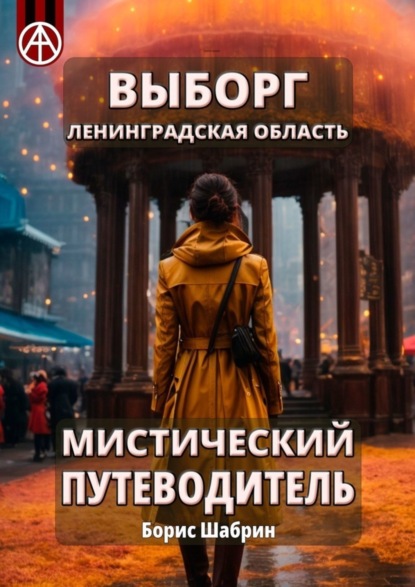Дело Лотарингской тени

- -
- 100%
- +
– Она не принцесса, – ответил я, глядя, как официант ставит передо мной чашку. Горячий пар смешался с яблочным духом алкоголя. – Она – живой экспонат из музея. Красивый, холодный и покрытый толстым слоем пыли. И врет, не моргнув глазом.
Я вкратце, без деталей, которые могли бы показаться ему сентиментальными, пересказал разговор с Элоди де Лоррен. О пустом месте на стене, о лжи про нужду в деньгах, о свежих царапинах на раме. Люк слушал, наклонившись вперед, его лицо выражало всю гамму эмоций, от которых я давно отучился: азарт, возмущение, триумф.
– Значит, рама! – воскликнул он, понизив голос до возбужденного шепота. – В ней было что-то спрятано! Документ! Дюруа нашел его, и убийца пришел за ним! Все сходится!
– Слишком просто, Люк. А когда что-то выглядит слишком просто, значит, ты смотришь не туда. Она лжет, это факт. Но почему? Из страха? Или потому что прикрывает кого-то? А может, она сама…
Я не закончил. Мысль была неприятной. Женщина, похожая на фарфоровую статуэтку, с руками по локоть в крови. В моем ремесле и не такое случалось.
– Нет, – решительно возразил Люк. – Не верю. У нее не хватило бы сил. Вы же видели статуэтку. Удар был мужской.
Его идеализм был одновременно его силой и его самой большой уязвимостью. Он все еще делил мир на черное и белое, на сильных мужчин и хрупких женщин. Война научила меня, что самые страшные монстры могут прятаться за самыми невинными лицами, а хрупкость – это лишь еще один вид камуфляжа.
– Мы топчемся на месте, – сказал я, сделав большой глоток. Кофе обжег горло, а кальвадос согрел изнутри. – Мы смотрим на последствия, а нужно понять причину. Кто такой был этот Дюруа? Не торговец. Торговца убили бы за деньги. Мы должны понять, во что он вляпался.
– Его квартира? – тут же подхватил Люк. – Она над лавкой. Мы опечатали ее, но не проводили тщательный обыск. Сосредоточились на месте преступления.
– Вот именно. Убийца искал что-то конкретное. Он нашел это в лавке – или думал, что нашел. Но что, если Дюруа был не так прост? Что, если он хранил свои настоящие сокровища не на витрине?
Идея была простой, лежащей на поверхности, но именно такие часто и упускаешь в горячке первых часов. Мы допили кофе, расплатились и вышли под все тот же моросящий дождь. Улица Риволи встретила нас суетой. Город жил своей жизнью, и вчерашнее убийство было для него лишь мелкой рябью на воде, не более. Желтая полицейская лента на двери салона «Сокровища Времени» уже выглядела потрепанной и чужой.
Квартира Дюруа оказалась продолжением его лавки, но без показного лоска. Это было не жилище, а берлога ученого-маньяка. Две комнаты, заваленные книгами. Они были повсюду: на полках до самого потолка, стопками на полу, на стульях, на широком подоконнике. Воздух был спертым, пах старой бумагой, клеем для переплетов и остывшим табаком. Единственное кресло у стола было продавлено, а пепельница на нем переполнена так, что окурки высыпались на пол. Это было логово человека, одержимого одной страстью.
– М-да, – протянул Люк, с опаской оглядывая хаос. – Похоже, мадам Дюруа давно отсюда съехала. Или ее и не было вовсе.
– У таких людей не бывает жен, – заметил я. – Их единственная любовница – история. И она очень ревнива.
Мы разделились. Люк взялся за спальню, которая оказалась такой же аскетичной, как келья монаха – узкая кровать, шкаф с парой костюмов, – а я остался в главной комнате, в эпицентре этого бумажного урагана. Я начал методично, полка за полкой, просматривать книги. Все они были посвящены одной эпохе. Великой французской революции. Не общие труды Мишле или Карлейля. Нет. Это были узкоспециализированные монографии, биографии второстепенных деятелей, сборники документов, протоколы заседаний Конвента. «Якобинский клуб в Лионе», «Финансы Директории», «Деятельность представителей в миссиях». Дюруа был не просто любителем. Он был настоящим исследователем, копавшим глубоко, туда, куда не заглядывают авторы школьных учебников.
Через час Люк вернулся с пустыми руками.
– Ничего. Счета, одежда, пара старых фотографий каких-то родственников. Никаких личных писем, никаких дневников. Похоже, вся его жизнь была здесь.
Я кивнул, не отрываясь от очередной книги. Мои пальцы были уже серыми от пыли. Это было похоже на работу археолога. Я вскрывал культурные слои, пытаясь найти тот артефакт, который объяснит все остальное.
– Тогда ищем здесь. Ищи не то, что спрятано, а то, что лежит на виду. Записки, пометки на полях, закладки. Он должен был оставить след.
Мы принялись за работу вместе, погружаясь в тишину, нарушаемую лишь шелестом страниц и стуком дождя в окно. Это была медитативная, почти гипнотическая работа. Страница за страницей, книга за книгой. Мир за окном перестал существовать. Остался только этот душный, пыльный ковчег, плывущий по волнам чужой одержимости.
Прошло еще два часа. Я уже начал думать, что моя теория неверна, что Дюруа был просто безобидным чудаком, а его убийство – трагическая случайность. И именно в этот момент Люк тихо позвал меня.
– Патрон, идите сюда. Посмотрите.
Он стоял у письменного стола Дюруа, заваленного картами Парижа XVIII века и стопками бумаг. Люк держал в руках большую картонную папку с выцветшей надписью: «Проект „Тень“».
Я подошел и заглянул ему через плечо. Внутри были не книги, а десятки листов, исписанных убористым, бисерным почерком Дюруа. Это были его собственные исследования. Схемы, таблицы, выписки из архивов. И на первом же листе, обведенное красным карандашом, стояло имя: «Огюстен Бланше».
– Кто это? – спросил Люк.
– Никогда не слышал, – признался я. Но имя показалось смутно знакомым, будто я видел его где-то в сноске, на задворках истории.
Мы стали читать. Поначалу это был хаотичный набор фактов. Огюстен Бланше. Адвокат из Арраса. Член Конвента. Голосовал за казнь короля. В 1793 году вошел в состав Комитета общественного спасения. Не Робеспьер, не Сен-Жюст, не Дантон. Фигура второго, а то и третьего ряда. Серый кардинал, счетовод, отвечавший за секвестр имущества «врагов народа». Его подпись стояла под сотнями ордеров на арест и конфискацию. А в 1794 году, за пару недель до термидорианского переворота, он исчез. Просто испарился. Официальная версия гласила, что он пал жертвой интриг и был тайно казнен робеспьеристами. Тело так и не нашли.
Но Дюруа, судя по его записям, в эту версию не верил. Он был одержим этим Бланше. Он отследил всю его жизнь, все его выступления, все подписанные им документы. И чем глубже мы погружались в эти листы, тем яснее становилась картина.
– Вот, – я ткнул пальцем в абзац, подчеркнутый несколько раз. – Слушайте. «Согласно мемуарам термидорианца Тальена, Бланше вел личный дневник. Не официальный протокол, а частные записи. Он был педантом и параноиком, он записывал все: разговоры в кулуарах, слухи, финансовые сделки. Тальен утверждает, что в этом дневнике содержались доказательства…»
Я замолчал, вчитываясь. Люк нетерпеливо заглядывал мне через плечо.
– Доказательства чего?
– …доказательства того, что многие пламенные революционеры, отправлявшие на гильотину аристократов за „предательство Республики“, сами тайно скупали их имущество за бесценок через подставных лиц. Более того, Бланше намекал, что некоторые смертные приговоры выносились не по политическим мотивам, а по заказу. Чтобы устранить конкурента или завладеть его состоянием. Он называл это „коммерцией гильотины“».
Мы переглянулись. В пыльной тишине комнаты эти слова прозвучали оглушительно. Это была не просто коррупция. Это было предательство самой идеи Революции. Это был яд, заложенный в самый фундамент Республики.
– Но ведь это было полтора века назад, – сказал Люк, хотя в его голосе уже не было прежней уверенности. – Кого это волнует сегодня?
– А вы дочитайте, – мрачно ответил я, переворачивая страницу.
Дальше шли схемы. Генеалогические древа. Дюруа проделал титаническую работу. Он отследил судьбу тех, кто, по его гипотезе, нажился на «коммерции гильотины». Их потомков. И вот тут-то от истории повеяло холодом сегодняшнего дня. Фамилии, которые всплывали в этих схемах, были нам слишком хорошо знакомы. Крупные промышленники. Банкиры. Влиятельные издатели газет. И политики. Депутаты Национального собрания, сенаторы, даже один министр из текущего правительства. Все они были столпами современного французского общества. Их репутации были безупречны, их патриотизм не подвергался сомнению. И все они, по версии Дюруа, были потомками тех, кто построил свое состояние на крови и предательстве.
– Боже мой, – прошептал Люк. Он сел на стул, заваленный книгами, которые посыпались на пол с глухим шорохом. – Если это правда… если этот дневник существует и в нем есть имена… это же бомба. Это взорвет всю политическую верхушку.
– Именно, – кивнул я. – Теперь ты понимаешь, почему Дюруа убили? Он искал не просто исторический артефакт. Он искал детонатор.
Мы молчали, переваривая открывшееся. Вся эта квартира, весь этот хаос обрели смысл. Это была лаборатория, в которой старый антиквар готовил взрывчатку, способную разрушить Третью Республику до основания.
Но где же сам дневник? В записях Дюруа об этом было сказано туманно. Он писал, что официальные архивы были тщательно вычищены. Дневник исчез вместе с Бланше. Но старик верил, что уцелели отдельные, вырванные страницы. Он предполагал, что Бланше, чувствуя опасность, успел передать их кому-то на хранение. Или спрятать. И последние записи Дюруа были посвящены поиску этого тайника.
И тут я увидел то, что заставило все части головоломки встать на свои места. В самом конце папки, на отдельном листе, была сделана всего одна запись. Несколько имен, выстроенных в столбик. И напротив каждого – пометка: «казнен», «эмигрировал», «разорен». Это были жертвы, чье имущество, по версии Дюруа, перешло к людям из списка Бланше. Последним в этом списке шло имя: «Маркиз Шарль-Анри де Лоррен». А рядом приписка: «Казнен 9 термидора 1793 г. по личному доносу Бланше. Все имущество секвестрировано. Прозвище в Конвенте – „Лотарингская тень“».
Лотарингская тень.
Кровь отхлынула от моего лица. Я протянул лист Люку. Он прочитал и поднял на меня глаза. В них больше не было юношеского азарта. В них был шок.
– Де Лоррен… – проговорил он. – Предок той самой Элоди.
– Да. Дюруа считал, что ключ к разгадке – у потомков жертв. Что Бланше, возможно, в последний момент раскаялся и передал доказательства вины палачей тем, кого они обобрали. И он нашел Элоди. И купил у нее старую гравюру с изображением казни.
– Он думал, что страница из дневника спрятана в раме, – закончил за меня Люк. – Он купил ее, вскрыл раму в своей лавке, нашел документ…
– …и позвонил кому-то из списка потомков, – подхватил я. – Решил сыграть по-крупному. Устроить шантаж. Но он недооценил, с кем имеет дело. К нему пришли не с деньгами. К нему пришли со статуэткой Гермеса.
Картина сложилась. Жестокая, логичная и страшная в своей простоте. Дюруа не был борцом за справедливость. Он был азартным игроком, который поставил на кон все и проиграл.
– Но кто? – спросил Люк. – Кто из этого списка? Их тут десятки!
Я покачал головой, просматривая фамилии на схемах Дюруа. Знакомые, влиятельные, недосягаемые. Люди, у которых были деньги, власть и полное отсутствие совести, чтобы заставить замолчать одного старого антиквара.
– Не знаю, – честно ответил я. – Но теперь мы знаем, что искать. Не просто убийцу. А того, кто больше всех боится призраков Комитета общественного спасения.
Я подошел к окну. Дождь почти прекратился, оставив на стекле грязные потеки. Внизу, на улице, жизнь шла своим чередом. Проехал грузовик, засигналил автомобиль, прошли две женщины под одним зонтом. Никто из них не знал, что здесь, над их головами, в пыльной квартире мертвого старика, история протянула свою костлявую руку и схватила настоящее за горло.
Мы нашли то, что искали. Мотив. Но вместо ясности я почувствовал, как на плечи легла тяжесть. Это дело перестало быть обычным убийством. Оно превратилось в прогулку по болоту, где каждый неверный шаг мог стать последним. Мы влезли в осиное гнездо, и теперь каждое наше действие будет вызывать ответную реакцию.
– Что будем делать, патрон? – голос Люка вывел меня из задумчивости. В нем звучала тревога, но и решимость.
Я обернулся и посмотрел на него. На его молодое, честное лицо. И впервые за долгое время я почувствовал не только усталость, но и страх. Не за себя. За него. Он верил в закон, в справедливость, в то, что правда всегда побеждает. А я знал, что правда – это всего лишь еще одно оружие в руках сильных. И оно часто стреляет в тех, кто пытается его поднять.
– Тихо, – сказал я. – Мы будем действовать очень тихо. Для начала, эта папка официально не существует. Мы ее не находили. Мы заберем ее с собой, и никто не должен об этом знать. А потом… потом мы начнем дергать за ниточки. По одной. И посмотрим, кто закричит первым.
Я закрыл папку. Пыль, поднятая нашими действиями, медленно оседала в лучах тусклого дневного света. Призраки Революции, потревоженные нами, не собирались возвращаться в свои могилы. Они были здесь, в этой комнате, они смотрели на нас из пожелтевших страниц, и их безмолвный шепот обещал, что кровь, пролитая однажды, никогда до конца не высыхает. Она просто ждет своего часа, чтобы проступить вновь.
Голоса левых бульваров
Телефонный звонок вырвал меня из дремоты, в которую я провалился прямо в кресле у себя в кабинете, на набережной Орфевр. За окном серый рассвет едва просачивался сквозь ночную мглу, смешиваясь с желтым светом настольной лампы. Воздух в префектуре в этот час был особенным – спертый, тяжелый, пропитанный запахом остывшего кофе, дешевого табака и тем едва уловимым ароматом человеческого отчаяния, который въедается в сами стены этого здания. Папка Дюруа, завернутая в старую газету, лежала в нижнем ящике моего стола, под стопкой нераскрытых дел. Она ощущалась не как бумага, а как кусок свинца, тянущий вниз не только ящик, но и все мое нутро.
Я поднял трубку. Голос дежурного был бесцветным, как у автомата.
– Инспектор Лекор? Звонок для вас. От комиссара Бодри. Соединяю.
Щелчок, затем в ухо полился знакомый, раздраженный тон моего начальника.
– Лекор. Надеюсь, я не оторвал тебя от разгадывания кроссвордов. У меня для тебя новости.
– Доброе утро, комиссар, – прохрипел я, потирая глаза. Сон не принес отдыха. Он принес лишь обрывки Вердена, перемешанные с образами гильотин и пожелтевших страниц. – Чем обязан?
– По делу антиквара. Поступил анонимный звонок. Полчаса назад. Мужской голос, говорил быстро, явно боялся. Утверждает, что знает, кто убрал Дюруа.
Я выпрямился. Сердце, до этого лениво толкавшее кровь по венам, сделало один резкий, тяжелый удар.
– И кто же, по его словам, этот счастливчик?
– Не кто, а кто. Группа. Ячейка коммунистов из Бельвиля. Какие-то «Истинные сыны Революции». По словам нашего доброжелателя, Дюруа собирал на них компромат. Якобы они получают деньги из Москвы через подставные фирмы, а сам он, Дюруа, был ярым патриотом и собирался передать документы в газету «L'Action Française».
Я молчал. Все это звучало слишком гладко. Слишком правильно. Как сценарий для второсортной пьесы, которую разыгрывают на бульварах. Патриот-антиквар против красных шпионов. Публика такое любит. И начальство тоже.
– Он назвал имена? – спросил я.
– Два. Некий Жак Комб, профсоюзный деятель с литейного завода. И студент-агитатор по имени Марсель Флобер. Какая ирония. Адреса тоже продиктовал. Я хочу, чтобы ты и Мартель немедленно этим занялись. Возьмите машину. Проведите допросы. Жестко, но без членовредительства. Эти красные – народ скользкий. Если это они, дело можно закрывать к вечеру.
– А если нет?
В трубке повисла короткая пауза. Я почти физически ощутил, как Бодри на том конце провода массирует свои виски.
– Лекор, не начинай. У меня и без твоей философии голова трещит от визита префекта. Есть наводка – отрабатывай. Это приказ. И докладывай мне о каждом шаге. Конец связи.
Он бросил трубку. Я еще несколько секунд держал ее у уха, слушая короткие гудки. Они звучали как насмешка.
Когда через десять минут в кабинет вошел Люк, я уже стоял у окна, глядя на Сену. Ее свинцовые воды несли к морю мусор и отражение низкого неба. Люк был свеж, выбрит и полон энергии. Он нес в себе утренний свет, который казался в этих стенах чужеродным.
– Патрон, я слышал, у нас есть след! – его глаза горели. Вчерашнее открытие не испугало его, а лишь раззадорило. Он был похож на гончую, почуявшую кровь.
Я обернулся.
– У нас есть кость, которую нам бросили, Люк. А вот есть ли на ней мясо, или это просто способ отвлечь нас от настоящего зверя – это мы сейчас и выясним.
Я передал ему суть разговора с Бодри. Пока я говорил, его энтузиазм постепенно угасал, сменяясь недоумением.
– Коммунисты? – он нахмурился. – Но зачем им гравюра? И при чем здесь дневник Бланше? Это не вяжется.
– Вот именно, – кивнул я. – Не вяжется. Это так же нелепо, как если бы архиепископ Парижский ограбил банк с криком «Да здравствует анархия!». Но приказ есть приказ. Мы едем в Бельвиль. Поговорим с этими «истинными сынами». Может, они и вправду решили, что Революция еще не закончилась.
Я достал из ящика стола свой пистолет, проверил обойму и сунул его в кобуру под мышкой. На папку, лежащую на дне, я старался не смотреть. Но она жгла меня даже сквозь дерево и сталь.
Бельвиль встретил нас запахом угольного дыма и вареной капусты. Здесь Париж сбрасывал свою парадную маску. Узкие улицы цеплялись за крутые склоны холма, словно морщины на лице старика. Стены домов, облупившиеся и покрытые пятнами сырости, были испещрены политическими лозунгами. «Смерть фашизму!», «Хлеба и работы!», «Сталин – надежда мира!». Поверх этих надписей кто-то другой, с такой же яростью, нацарапал свастики и призывы «Франция для французов!». Это был город в городе, живущий по своим законам, говорящий на смеси французского, идиша, польского и итальянского. Здесь не любили ни богатых, ни полицию. И то, и другое было для них синонимом враждебной силы.
Первый адрес привел нас к серому многоквартирному дому, похожему на улей. Дверь в квартиру Жака Комба была обита рваной клеенкой. Нам открыл мужчина лет пятидесяти, широкоплечий, с лицом, будто высеченным из куска гранита. Его руки, лежавшие на косяке, были руками рабочего – большие, мозолистые, с въевшейся в кожу металлической пылью. Он не удивился нашему появлению. Лишь смерил нас тяжелым, недобрым взглядом из-под густых бровей.
– Полиция, – представился я, показывая удостоверение. – Месье Жак Комб?
– Я. Что вам надо от пролетариата в такую рань? Капиталисты еще спят в своих шелковых постелях.
– Нам нужно задать вам несколько вопросов. По поводу убийства.
Он усмехнулся, но в его глазах не было веселья.
– Убийства? Вы ошиблись адресом, граждане. Мы боремся с системой, а не с отдельными ее представителями. Убивать их поодиночке – бессмысленная трата сил.
– Тем не менее, мы бы хотели поговорить внутри.
Он помедлил, затем нехотя отступил, пропуская нас в крохотную комнату, служившую одновременно кухней, столовой и гостиной. Обстановка была бедной, но чистой. На столе лежали стопки профсоюзных газет и брошюр. Из соседней комнаты доносился кашель – сухой, надсадный, легочный.
– Жена, – коротко пояснил Комб, поймав мой взгляд. – Подарок от хозяев завода. Пыль в цеху бесплатная.
Мы сели за стол. Люк достал блокнот, готовый записывать. Я же просто смотрел на Комба.
– Вы знали человека по имени Аристид Дюруа? Антиквар с улицы Риволи.
Комб нахмурился, задумался.
– Дюруа… Что-то знакомое. А, этот. Мелкий лавочник с фашистскими замашками. Пару раз выступал на собраниях правых лиг. Кричал о еврейско-большевистском заговоре. Ничего интересного. Обычный буржуазный попугай.
– Его убили два дня назад. В его лавке.
– Сочувствую, – без тени сочувствия произнес Комб, скрестив на груди свои могучие руки. – Наверное, не поделил с кем-то краденое. Они все там торгуют барахлом, вывезенным из русских дворцов.
– Есть сведения, что ваша организация, «Истинные сыны Революции», угрожала ему, – вмешался Люк. Его голос звучал слишком громко в этой маленькой комнате. – Говорят, он собирал на вас материалы.
Комб перевел взгляд на Люка. Это был взгляд опытного волка на неоперившегося щенка.
– Молодой человек, если бы мы собирались заткнуть рот каждому идиоту, который кричит о красной угрозе, у нас бы не осталось времени на классовую борьбу. Наша сила – в правде, а не в ночных убийствах. Это ваши методы. Методы капитала.
– Где вы были вечером во вторник? – напор Люка не ослабевал.
– Где и всегда. На собрании профсоюза. До десяти вечера. Со мной было тридцать человек. Можете спросить у любого. Мы обсуждали грядущую забастовку.
Он говорил спокойно, уверенно. В его словах не было ни одной трещины, ни одной фальшивой ноты. Он был идеологическим солдатом, и его алиби было таким же железным, как его убеждения. Я это чувствовал. Этот человек мог бросить булыжник в полицейского, мог повести толпу на штурм префектуры. Но он не стал бы красться в антикварную лавку, чтобы проломить голову старику статуэткой. В этом не было ни масштаба, ни идеи.
Я поднялся.
– Спасибо за ваше время, месье Комб. Мы, возможно, еще вернемся.
– Всегда к вашим услугам, граждане полицейские, – ответил он с тем же ледяным сарказмом. – Когда решите арестовать тех, кто по-настоящему грабит и убивает эту страну – банкиров и фабрикантов, – зовите. Я помогу.
Когда мы вышли на лестничную клетку, Люк разочарованно выдохнул.
– Врет. Я уверен.
– Он не врет, – возразил я, спускаясь по стертым ступеням. – Он говорит то, во что верит. И это разные вещи. Но он не убийца. Он слишком прямолинеен для такой игры. Этот человек будет бить в лоб, а не в спину. Поехали ко второму. К поэту.
Марсель Флобер жил не в Бельвиле, а ближе к Латинскому кварталу, в мансарде под самой крышей старого дома на улице Муфтар. Если квартира Комба была штабом солдата, то комната студента напоминала гнездо безумной птицы. Стены были сплошь заклеены вырезками из газет, портретами Маркса, Ленина и испанских республиканцев. На полу валялись стопки книг, раскрытых и перевернутых. В углу на ящике стояла пишущая машинка, в которую был заправлен лист со стихами. Воздух пах остывшим чаем и типографской краской.
Сам Флобер был полной противоположностью Комба. Худощавый, нервный юноша с горящими глазами и копной черных волос, которые он постоянно отбрасывал со лба. Он встретил нас с вызывающей усмешкой, словно ждал этого визита и репетировал свою роль.
– А, ищейки режима! – воскликнул он, театрально раскинув руки. – Пришли арестовать свободную мысль? Спешу вас разочаровать, ее нельзя заковать в кандалы!
– Нам не нужна ваша мысль, месье Флобер, – спокойно сказал я, оглядывая его убежище. – Нам нужно ваше алиби на вечер вторника.
– Вторник? – он сделал вид, что задумался. – О, это был великий вечер! Я был на поэтическом диспуте. Мы читали стихи в поддержку испанских товарищей. А потом до утра спорили о роли пролетарского искусства в грядущей мировой революции. Нас было человек пятнадцать. Все готовы подтвердить.
Он говорил с упоением, явно наслаждаясь каждым словом.
– Вы знали Аристида Дюруа? – спросил Люк, сверяясь с блокнотом.
– Дюруа! Конечно! Эта ископаемая рептилия! Этот лакей капитала, торговавший обломками феодализма! Я даже написал на него эпиграмму. Хотите послушать? «Антиквар, в твоей душе темно, как в склепе…»
– Мы слышали, вы считали его врагом, – прервал его я.
– Он не враг. Он – симптом! – Флобер ткнул в меня пальцем. – Симптом загнивающего общества, которое цепляется за прошлое, потому что боится будущего! Такие, как он, готовят почву для фашизма! Их нужно разоблачать! Уничтожать морально!
– А физически? – тихо спросил я.
Он на мгновение сбился. В его горящих глазах мелькнуло что-то похожее на испуг, но он тут же скрыл это за новой волной патетики.
– Революционное насилие – это повивальная бабка истории! Но оно должно быть массовым, осознанным актом, а не вульгарным убийством в темном переулке! Это анархизм, а не марксизм!
Я подошел к его столу и взял лист из пишущей машинки. Стихи были яростными, полными огня и призывов к борьбе. Но строчки были ровными, почти каллиграфическими. Его руки были руками писца, а не убийцы. На пальцах не было сбитых костяшек, лишь чернильные пятна.
– Вы много говорите о насилии, месье Флобер, – сказал я, кладя лист на место. – Но, похоже, ваше главное оружие – это пишущая машинка.
Он вспыхнул.
– Слово тоже может убивать!
– Может, – согласился я. – Но оно не проламывает черепа.
Мы ушли, оставив его декламировать что-то гневное нам в спину.