Великий Банан
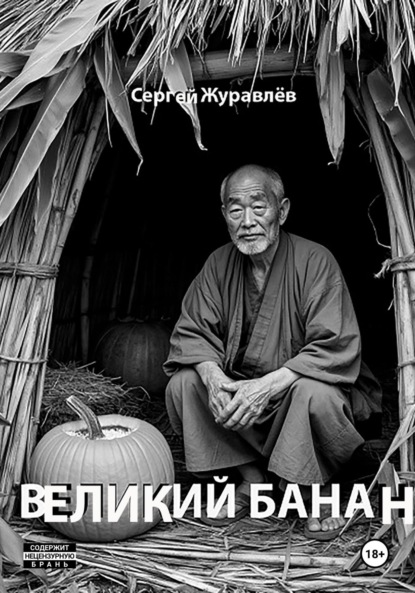
- -
- 100%
- +
Все эти годы за меня некому было заступиться, но однажды я поняла, что, заступаясь за другого, становишься сильнее.
Ее звали Фаина. Я-то по ерунде попадала всегда, тяжкие телесные, все такое, а Фаина настоящая мошенница была. Голубая кровь. Она была не такой уж и беззащитной, но ее хотелось опекать.
Бабы в бараке завидовали нам. Кобл на колбе, а мы, какими были на воле, такими и остались. Фаина была такой манерной белой птицей. Такая немного блаженная.
Белая птица в клетке
Сердце рвётся на волю.
Острая тишина.
Я на свою внешность тоже не жаловалась. На свободе разденусь и любуюсь собой перед зеркалом. Если, конечно, не колюсь. На свободе у меня свой круг. Не то чтобы я – наркоманка, но не могу себе отказать.
Фаина раньше освободилась. Какое-то время жила в райцентре. Поддерживала меня морально и материально. Приезжала на свиданку, все в порядке было. А как она уехала домой, я из ШИЗО не вылезала, злостным нарушителем стала. Я ж не железная. Оттуда и освобождалась.
Последнюю ночь в лагере я совсем не спала, вернее, мне так казалось. Мне то снилось, что я не сплю, то я и, в самом деле, не спала. Все смешалось в голове.
Ехать до нашего города нужно было целые сутки. Я старалась не думать о зоне – даже платье надела. Сажусь на трамвай и еду первым делом к Фаине – дома меня никто не ждёт.
Спрыгиваю с трамвая, перехожу пути и через квартал сворачиваю направо. На воле – непривычно грязно, словно я вернулась из-за границы. На тротуаре – «натюрморты» из пакетов, пустых бутылок и прочего добра.
Показывается ее дом – №8, такой же серый и панельный, как все другие, со швами, замазанными цементом, а я улыбаюсь.
Приехала, а Фаина бухает по-черному. Ну, в смысле выпивает. Я захожу, а она мне: «Привет, Петрович!»
Первым делом подхожу к окну и открываю форточку. На стоянке перед домом ругаются два мужика. В хрущевке напротив зажигаются первые огни.
А я говорила, у меня на воле страсть была к наркотикам. Я без них не пьянею.
Очнулась, смотрю – кто-то стоит.
– Это кто? – спрашиваю.
– Не видишь, что ли? Я Фаинин брат.
А я не в теме. Думаю, ну, брат и брат, родственные связи. Ну и засыпаю.
Глаза открываю, а Фаина с «братом» – в полный рост. Брат с сестрой, то есть. А я – за кадром.
Я не боюсь казаться смешной, но ненавижу выглядеть глупо. Переворачиваюсь, чуть ли не храплю. Затаилась и жду: что же будет? А у самой каждый нерв скручивается в жгут, и клетки лопаются от боли, как почки. Вроде час назад укололась, а как будто ломка у меня.
Эти двое встают. Я тоже. А у меня в сумке – две бутылки водки, но я виду не показываю. Я «брату» и говорю:
– Ты сейчас тащись в магазин, а с тобой я поразговариваю, – это я Фаине уже.
Ну, брат уходит в магазин. Я Фаину спрашиваю:
– Пить будешь?
– А есть?
– Конечно.
Фужеры стоят. И граненый стакан один.
– Чистый?
– Чистый.
Я наливаю ей полстакана и говорю:
– Пей.
– За что?
– За мою короткую свободу.
– Ты что? С ума сошла? Гена, ты с ума сошел?
– Ну, выпей за то, что я доехала к тебе, – говорю.
Фаина пьет, а я ребром ладони – по стакану. Потом вытаскиваю, что у нее во рту осталось после удара, и – кулаком в лицо.
Спросите, зачем? Не знаю. Просто я – очень сложный человек, и требования к людям у меня тоже чрезвычайно высоки. Ну, и плюс, конечно, я действительно крайне сильно была к ней привязана.
Закрываю кухонную дверь. Иду спокойная. Прохожу в ванную и только успеваю руки помыть, как заходит «брат». И, видимо, уже где-то добавил.
– Присаживайся, – «брату» говорю.
– А где Фаина?
– К соседке пошла на полчасика. Женщина есть женщина, – и – к нему.
«Брат» обнимает меня как женщину. Я-то с виду не похожа на мужчину, даже когда надевала фуфайку, сапоги и ватные штаны. Я даже любуюсь собой, когда зеркало большое есть. Поэтому я на свободе становлюсь нормальной бабой. Если, конечно, не колюсь.
Ну, значит, одна его рука расстегивает мне платье, другая лежит у меня на коленях. Мне противно, и я знаю, что он сейчас будет делать, но придвигаюсь к нему еще ближе. Потом рука, отвратно лежавшая у меня на коленях, соскальзывает, касается моей ноги и начинает подвигаться выше.
– Мы сейчас с тобой свалим, – говорю я ему и убираю его руку.
– С тобой?
– А ты тут еще видишь кого-то? Конечно. Выпьем только.
«Брат» – за стакан, а я – за нож столовый. Берут в руки и идут на него. Чувствую, слабоват мужичек-то. (Ему тридцать два года). А я раньше баскетболом занималась. Капитан городской команды была.
– Ну, что с тобой делать будем? Брат ты ей, да?
– Брат, – говорит, а сам столик журнальный переворачивает. – Нельзя, Женя, говорит, что ты!
– Нет, можно. Так надо. Ты сам знаешь.
– Нет, Женя не надо. Нельзя. Ой, не хорошо так. Ой, не надо, больно. Не смей! Ой, Женя! О!
В общем, я ему – восемь ножевых ран.
Мне бы рюхнуться в ридикюль – «брат», как оказалось, пока я в отрубе была, справку об освобождении вытащил. А там все – имя, фамилия, адрес прописки.
Ловлю тачку. А «брат» приходит в себя и ползет до прихожей, до телефона дотягивается. (Я это потом узнала) Вызывает скорую. Скорая приехала, а он встать не может.
– Ломайте дверь, – говорит.
А я уже в такси к дому подъезжаю. Панельные трущобы, знакомые покосившиеся балконы. Ничего нового.
– Притормози, – говорю.
Водила останавливается, я открываю сумку:
– Давай стакан.
Только наливаю стаканчик, мимо с мигалками четыре машины проносятся…
Мне уехать бы, да некуда. Прошу проехать вокруг моей пятиэтажки. Останавливаемся на углу дома. Вроде никого. Расплачиваюсь с таксистом, пятьсот ему даю. Небо белое, как глаза слепого. Где-то жарят рыбу. Вонища – на весь двор. Дохожу до своего подъезда, и тут менты выходят. Наручники на руки и – вперед.
– Ребята, я только после пятеры, пустите, я же все равно уже в подъезде, на третьем этаже живу. Давайте, зайдем ко мне домой. У меня там – зеркало.
– Нет, – говорят, суки. – В машину.
От земли поднимается холодный туман.
Железный Феликс
Смотрит на Детский мир.
Холодный дождь.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В городке Сломанные Сучья Васю Полушкина знает каждая собака. Да и чему удивляться, одна Васина седина чего стоит!
Серебро Васиной головы заставляет вспомнить дела минувших дней: старинные русские былины, волхвов из фильма «Руслан и Людмила» и все такое волшебное прочее вроде двадцатилетней службы в солдатах.
С патриаршей Васиной сединой могут сравниться только его наколки. Скажем, если поставить на пляже рядом Анджелу Джоли и Славу – Слава посинее Анджелы будет. А какие тригонометрические фигуры Вася строит пальцами цвета чайной розы с нарисованными перстнями, не забыв при этом улыбнуться тридцатью тремя стальными зубами! Руки тут же тянутся угостить его сигаретой, а потом еще долго гоняют зажигалку по закоулкам брюк.
Говорят, Вася даже родился в тюрьме, хотя для этого большим оригиналом быть не обязательно. То есть, особо большого ума здесь не требуется. А вот прожить в тюрьме – не поле перейти. Тут без внутреннего стержня лучше и не лезть. И такой стержень появился у Васи довольно рано.
В первый же год взрослой зоны, один дядя посоветовал Васе, для того чтобы стать ему более интересным в общении, читать книги. Вася не побрезговал этим советом и начал обращаться в библиотеку. Спустя какое-то время, захотелось ему читать книги, в которые вложен еще больший смысл, над которыми можно поразмышлять, что-то взять себе на вооружение. И, в конце концов, даже многие взрослые стали говорить, чтобы Вася, освободившись, шел учиться и даже не думал о криминале. Он и сам уж сделал вывод, что надо сначала сделать шаг в жизни такой, чтобы выйти в люди и получить образование, а потом все остальное.
Но так, видно расположились звезды, что только через двадцать пять лет Вася осуществил свое детское призвание. Повезло ему, правда, очень с женой – Соней. Соня была родом близ Одессы и тоже видала виды: восемь лет в местах лишения свободы по необоснованному обвинению в хозяйственных правонарушениях. К тому же когда-то давно в тюрьме у Сони родился сын. Прожил он всего месяца три или четыре, и по всей видимости, Вася Полушкин, чем-то напоминал ей его.
Вася, и вправду, был исколот не только снаружи, но изнутри, а двадцать восемь лет тюремных университетов, только отточили его и без того блестящие ум и манеры.
Бывало, отставит ухоженный до желтого блеска ноготь, и страшным, загробным шепотом посоветует: «Попробуй коснись – и тебе не жить!»
Чего сказал – поди разбери, но пробовать не хочется. Словом, артист! Ему бы в кино сниматься, но Вася с детства мечтал о другом призвании – помогать всем оставшимся Там.
Там, где он провел 28 лет своей молодой загубленной жизни. Конечно, не бандитам, те и так везде, как сыр в масле катаются, а своему брату – каторжнику.
Сама Соня так описывает это в одной из своих публикаций: «Оба мы на собственном опыте познали все темные и страшные стороны наших тюрем и лагерей. Вдыхали смрад и духоту тюремных камер, поняли с какой легкостью и безответственностью фабрикуются обвинительные заключения и приговоры, испытали жестокое отношение к себе со стороны тюремщиков, ощутили, как постепенно отучает заключенных от всего человеческого наша «исправительно-трудовая» система… Оба вышли на волю с потерянным здоровьем и разрушенной психикой. Поэтому таким естественным было для нас решение бороться с несправедливостью и бесчеловечностью, порождаемой ГУЛАГом…»
Соня – мозг организации, Слава – осуществляет представительские функции.
Поселились в Сломанных Сучьях, в доме, доставшемся Славе по наследству от бабки.
В дела милиции старались не лезть, не Москва. А вот осужденным помогать и за 101 километром не возбраняется. А с такой супругой и подавно.
Так что, хоть и был Вася для милиции на вес золота, а за женой жил, как за швейцарским судом в Гааге. Без зашитых карманов на улицу ни шагу. Пей – но только дома. С милицией с глазу на глаз – никаких перекуров.
Но и на старуху бывает проруха. Не уберегла Васю мужа.
Согласно протоколу, в тот злополучный вечер сотрудники полиции Самоходов и Мережко остановили нетрезвого водителя (Аннушкину В.О.) и собирались отогнать ее мерседес на штрафстоянку.
Со слов сотрудников полиции Вася оказывал препятствие их законным действиям, всячески оскорблял и хватал за форменное обмундирование сотрудников полиции, предлагая отогнать машину Аннушкиной В.О. до проведения медицинской экспертизы к его дому.
Сотрудники, опасаясь за свою честь и здоровье, пустили в ход дубинки, а потом подключили ноги, обутые в полицейские ботинки, и тогда Вася, согласно протоколу, пустил в ход свою дворовую овчарку по кличке Джим.
Пес изрядно потрепал обмундирование прапорщика Самоходова и больно укусила его за ногу.
Джима застрелили, ну, известно, наповал, а Васю погрузили в бобик с новенькой надписью «Полиция» и возили по окрестностям, прикованного наручниками к потолку, давая возможность Самоходову получить справку об укусах собаки раньше, чем Соня устроит кипеж в городке и начнет жаловаться в Гаагу.
Так Вася, после шести лет везения и вольной жизни, оказался на грани нового срока. А с учетом его яркой биографии, светило ему лет семь-восемь, не меньше.
В половине одиннадцатого ночи Соня была в опорном пункте полиции. Правда, она не стала сразу же демонстрировать весь свой репертуар, а повела разговор осторожно, отлично понимая, что на этот раз все козыри в руках соперника по состязательному правосудию.
В полиции Соню встретили, как родную душу. Орган дознания по происшествию с собакой, созданный приказом начальника полиции, и возглавляемый зам. начальника капитаном Воловодовым, внимал Соне с добродушным снисхождением, можно сказать, с участием. Да и понятно – такой сюрприз от Васиной овчарки! Не сюрприз, а просто царский подарок.
Сидели, беседовали, можно сказать, по-соседски, где-то даже сочувствуя беде народных адвокатов, и в то же время, с грустью понимая, что сделать уже ничего нельзя – закон есть закон.
– Вы и меня поймите, господин капитан, – словно бы извинялся Самоходов, хозяйски поправляя бинт на ноге, – я человек, который хочет одного. Доработать спокойно смену и выпить пива безалкогольного перед телевизором. Этого, товарищ капитан…
– Господин капитан, – поправил Воловодов.
– Овсянка, сэр! – сострил Самоходов. – Этого, господин капитан, даже в конституции нет, чтобы от каждого незаконопослушного гражданина членовредительство принимать. Ежели ихний брат будет на милицию собак натравливать, то и переаттестацию проходить будет не с кем.
– Сколько волка не корми – а у коня, это самое… – философски заметил Воловодов и обратился к Мережко, назначенному дознавателем, – Санек, установи, правда собака была Полушкина, и возбуждай. Оставлять это так оставлять нельзя. У нас сотрудники не казенные, чтобы ими собак кормить. А овчарку ты правильно застрелил – она, к бабке не ходи, бешенная. Анализы у трупа, кстати, надо взять на вирус. А то Самоходов нас тут самих перекусает.
Воловодов с Мережко прыснули.
– Ироды! – ласково парировал Самоходов насмешки товарищей.
– Вы меня, конечно, извините, – не спеша и даже как-то вальяжно взяла слово Соня, – что я вмешиваюсь в вашу беседу, – И вообще, я не очень разбираюсь, в какую собаку стреляли ваши сотрудники, но я, лично, буду на жаловаться, если вы немедленно, сейчас же, сию же секунду, не вернете мне моего мужа – Полушкина Василия Ивановича!
С этими словами Софья Семэновна положила на стол листок с напечатанным текстом, подписями и печатью.
Любомиров взял листок и начал читать вслух.
– Состав…
– Состав преступления? – переспросил Мережко.
– Состав комиссии по правам человека Московской области. Значица… Архипкин Юрий Петрович – главный врач Управления здравоохранения администрации Ленинского района. Глав врач! Беляев Александр Васильевич – инженер лаборатории вычислительной техники и автоматизации АО ИЯИ город Дубна.
– ИЯИ? – переспросил Мережко. – ИЯИ? Японцы что ли?
– ОИЯИ, – сказала Соня, стараясь не педалировать свою интеллигентность. – Это опечатка. «Объединенный институт ядерных исследований».
– Страсть господня! – перекрестился Самоходов. – Ядерных! Что же с нами теперь будет? Покусали – так теперь еще и подзорвут?
– Тебя точно, Самоходов! Что б не мучился.
– У, ироды!
– Головина Тамара Сергеевна – народная артистка Российской Федерации!
– Ух, ты! Артистка? Певица?
– Народная артистка, руководитель ансамбля «Сувенир» …
Полицейские прыснули.
– Ай, ай, ай!
– Кыскин Александр Васильевич…
– Как? Кискин?
– Какой Кискин. Анискин! Деревенский детектив?
– Кыскин Александр Васильевич! Юрист Управления социальной защиты населения Пушкинского района. Хрулев Юрий Константинович – хирург Павлово-Посадской центральной районной больницы.
– К такому попади с простудой – оттяпает ногу по самое… вам по пояс будет… Слышь, Самоходов. Мы тебя к нему отправим на уколы.
Полицейские опять прыснули. Не смеялся один Самоходов.
– Просто не состав, а один другого чище!
– Да они там все, как на подбор. Полушкин Василий Иванович – исполнительный директор Общества попечителей пенитенциарных учреждений г. Серпухова.
– Ну Ваську мы знаем, как облупленного.
– Хорошо знаем с плохой стороны, – уточнил капитан.
– Неубивайко Софья Семеновна – руководитель группы прав заключенных Общества попечителей пенитенциарных учреждений г. Серпухова, собственной персоной.
– Что же Вы, Софья Семеновна, руководитель, а собак на полицию натравливаете?
– Это мы еще разберемся, кто на кого натравливал, – ловко сдержала удар Соня.
– Жаловаться вы хорошо научились! Знаем! – сказал Воловодов. – Так может вам теперь еще и собак на милицию натравливать положено?
Сотрудники опять прыснули. Настроение, после пережитого стресса, было приподнятое.
– Я не знаю, кто натравил овчарку на вашего сотрудника, – спокойно сказала Соня, – а наша собака, вообще-то, не кусается.
– Не кусается? – Самоходов дрожащими руками достал из папки справку, аккуратно упакованную в прозрачный файл, и потряс ею. – Вот тут, вот тут… это документ.
– Вон какой худящий, – подтвердил Мережко со зверским блеском в глазах. – Она же, сука, пополам его могла!
– Жаловаться вы хорошо научились! А вот как на живого человека овчарку натравливать…
– Граждане! Святые товарищи-господа! Я что-то никак не пойму, про какую овчарку речь зашла, ась? – заголосила Соню – Наша собачка по породе – чистокровная дворняга. И, вообще, как я уже отметила выше, она не кусается.
– Да по нам хоть крокодил, – сказал капитан. – Ваш зверь? Ваш. Вот и не морочьте голову дознанию.
– Овчарку они к нам прописали! Да, мой муж полжизни провел в лагерях! – не сдержавшись, похвасталась Соня. – Да чтобы мой Васька с овчаркой под одной крышей жил? Да он с ней на одном поле не сядет на корточках!
– Ну, на все правильно! Давайте, конечно! – сказал Самоходов. – Натравливайте собаку на живого человека. А, что у меня эта нога, может быть, шоферская…
– Коля, руководство тебя отметит, – пообещал капитан. – Продолжай, Мережко. Как именно ранее судимый Полушкин склонял собаку к нападению на сотрудника Самоходова?
– Известно, как собак склоняют. Натравил.
– Интересное кино! – перебила Соня. – И каким таким Макаревичем он ее натравливал? Может быть, слово какое секретное назвал?
– Вы гражданка не ёрничайте, а то мы вас саму арестуем. Вон лоб какой здоровый, сам ответит. Ну, Мережко? Как подозреваемый натравливал собаку?
– Он, сволочь, сказал ей: «Фас!», товарищ капитан, тьфу, господин капитан!
– Так и сказал «фас»? – Соня даже присела от удовольствия.
– Как крикнет «фас!», так она – прямо через забор и будь такова…
– Ага! Значит, мой муж сказал «фас»? Я ничего не путаю?
– Вопросы здесь задаю я! – сказал капитан.
Но Соня только торжествующе оглядела своих оппонентов.
– А я и не претендую на ваши святые обязанности, господин капитан, я только прошу внести в протокол, наша собака не знает слова «фас»! Ни «фас», ни в профиль, никаких других команд. Два года бились хоть кол на голове чеши этой дворняге!
– Это следствию одиново, – сказал капитан, – Ваш зверь? Ваш! Понимать он не понимает, а сотрудника вот покусал. Давай дальше, Мережко.
– Нет, погодь! – перебила опять Соня. – вот я скажу ей «фас», и пущай суд присяжных констатирует, шелохнется она хоть на сантиметр аль нет!
– Что это значит, ты ей скажите? – не понял капитан, то волнения переходя на «ты».
Полицейские нервно переглянулись.
– А вот так и скажу! Я просто сейчас же требую следственного эксперимента. Да мой Джим по-русски ни единой команды не знает, не то, что по-французски.
– Ты, мать, того, что ль? Или тоже взбесилась? Собака-то – того! – сказал Мережко. – Как теперь проверишь, шпрехает она по-французский или нет?
– Да! – сказал капитан. – Вы, гражданка Овечкина-Полушкина, успокойтесь и не порите полную чушь.
– Жаловаться вы научились, а как натравливать… – сказал Самоходов. – Я этой ногой теперь год, может быть, шоферить не смогу.
– Да, если бы не издохла – можно было бы проверить. А теперь что? – сказал капитан уже явно скучая и обращаясь к Мережко. – Сань, возбуждай. Все ясно. Лучше хлеба все равно не придумаешь.
– Так. Вы все сказали? – торжеству хозяйки Джима не было предела. – Очень замечательно и хорошо! Теперь позвольте мне слово взять? Я не знаю, кто там у вас в морге отдыхает, какая такая замученная собачка, а наша собачка жива, здорова.
Полицейские снова переглянулись. Наступила, что называется, немая сцена.
– То есть, что значит «жива, здорова»?
– А в кого ж я стрелял? – сказал Мережко.
– Труп где? – спросил капитан, повышая голос уже на своих сотрудников.
– Дак мы, это, – сказал Мережко. – Тамося.
– Что значит, тамося?! – взвился капитан.
– На месте преступления.
– Идиоты, если вещдок пропадет, сами у меня на Полярный Урал зимовать отправитесь.
– Вы извините, конечно, что я опять вмешиваюсь в вашу беседу, – заголосила старушечьи голосом Соня. – Я тут не совсем понимаю, в какую собачку стреляли ваши сотрудники, а наш Джим бегает по двору и ни о какой такой охоте даже не догадывается. А если вы считаете, что это в мою собаку стреляли, то в каком же состоянии были ваши подчиненные, если они с двух шагов мимо живой цели промахиваются?
– А кто промахивался? – обиделся Мережко. – Я в нее всю обойму вкатил.
– А я говорю, я не знаю, – сказала Соня, – может, в чью-нибудь собаку ваши снайперы всадили целую обойму, а наша собачка не при делах. То бишь жива, здорова, чего и вам желаем.
– Что значит, жива, здорова? – обиделся Самоходов.
– Объясняю для непонятливых последний раз, – сказал Соня, теряя для виду терпение. – Жива – это значит жива. Я не знаю, может быть, чья-то овчарочка-то и сдохла, а наша собака, вы меня извините, конечно, жива, здорова, можете пощупать ей пульс.
Поехали смотреть собачку.
Всю дорогу полицейские рассеянно молчали и с опаской подглядывали на капитана.
– А это точно собака ваша живая? – только и спросил один раз Воловодв. – Вы ничего не путаете?
– Вы извините, конечно, – сказала Соня. – Но вы просто глупости какие-то говорите.
Приехали домой к Васе и Соне.
Была уже ночь. Уличных фонари, разумеется, были разбиты. Полицейские достали оружие и тут же поняли, что сделали это не напрасно. По двору, как тень, носилась огромная черная дворняга, которая, казалось, нарочно старалась слиться с темнотой. В верхушках деревьев завывал ветер.
– Проходьте! – сказала Соня, – Звиняйте, Васька месяц свет починить отказывается.
Но полицейские предпочли остаться на улице.
– Чем дальше в лес – тем рубашка ближе к телу, – пояснил дислокацию капитан и передернул затвор. – Да и ордера у нас нету.
Джим, обеспокоенным отсутствием хозяев, сам выбежал на улицу, заслышав голос Сони и каких-то скучных гостей.
– Вот, – сказала Соня, проводя очную ставку, – будьте, как говорится, знакомы, наш Джим. Джим! Иди сюда, мой хороший.
Джим подбежал и радуясь, как сумасшедший, заскулил и завилял хвостом.
– Молодой еще, дурак, – сказала хозяйка и потрепала пса по густой шерсти. – Так что будьте любезны, верните моего мужа сюда, пока я пешком до Страстбурга не дошла.
– Шутка дня, – сказал капитан и обратился к сотрудникам. – Ну, снайперы? Какие будут версии?
– Смотри, – сказал Мережко Вислову, – она?
– Черт ее знает, может и она… Бегает…
– Так та или не та?
– Та вроде овчарка была.
– Пес ее разберет. Я в нее всю обойму расстрелял.
– Нет, та вроде больше была. А она точно живая?
– Что вы сказали, извините? – переспросила Соня, хлопая глазами.
– Собака ваша точно живая, Вас спрашивают? – сказал капитан.
– Нет! Не живая. А что?
– То есть как это не живая?
– А так! Она у меня – на батарейках «энеджайзер» работает.
– Вы, гражданочка, не грубите милиции, – сказал капитан. – То есть полиции.
– Это я грублю? Господа полицаи, да я сейчас дар речи вообще потеряю. Перед вами в полный рост стоит собачка, а вы у меня спрашиваете, живая она али мертвая?
Джим улыбался и вилял хвостом, понимая, что говорят о нем.
– Точно, живая, – подтвердил Самоходов.
– Так та или не та? – спросил капитан.
– А черт ее знает! Темно было.
– Может, и эту пристрелим? – предложил Мережко.
– Вы извините, конечно, что я вмешиваюсь в вашу беседу, – чуть ли не пропела Соня, – но только, кто ж это, мне антересно, вам позволит стрелять в мою собачку, да еще же у меня дома?
– А в кого же я тогда стрелял? – сказал Мережко.
– А вот и разберитесь!
– А вот и разберемся! – сказал капитан.
– Да, пожалуйста, вы уж там разберитесь, кого убили ваши люди, может, это и не собака была, может пьяный какой сотрудника вашего же и покусал, – сказала Соня, – а моя собачка – жива, здорова, чего и вам желаю.
Так и ушли не с чем. Хотели, на всякий случай, Соню тоже забрать до выяснения, но потом плюнули. Не захотели связываться с Москвой. И тем более, со Страсбургом.
– Мой мужик, конечно, лапоть, – говорила через минуту соседке Соня. – Если бы не я – с его прошлым сел бы еще на пять лет. И не посмотрели бы, что Исполнительный директор Общества попечителей пенитенциарных учреждений. Как он без меня, вообще, жил бы – я просто ума не приложу.
– Выпустят Ваську-то?
– А что они сделают – собака-то жива. Джим, конечно, наш не чистокровный. Команд не знает. Но, если Ваську бьют, беги, пока ноги-руки целы. Хорошо, наша полиция стрелять не умеет. Шесть пуль в него выпустили, одна – на вылет, только шерсть чуть задела, другая застряла где-то в кишках. Остальные – мимо. Джим, конечно, мастерски схилял. Артист! Но только никому не рассказывай об этом, ладно?

