Великий Банан
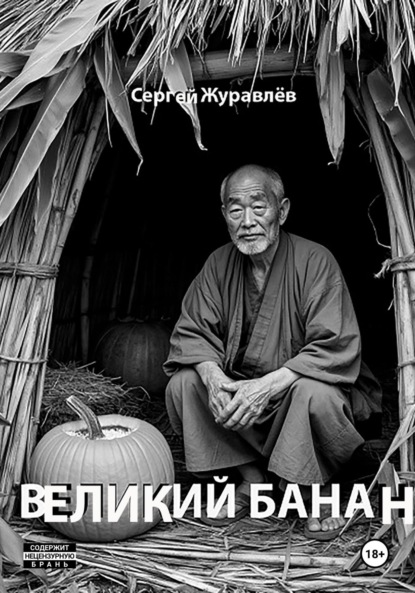
- -
- 100%
- +
ХЕМИНГУЭЙ. Да потому что они у меня по локоть в крови! (Собачке) Не бойся, vieux*. Я тебя не трону. Бойся свиней, которые затевают войну и думают только об экономической конкуренции. Зато те, кто сражается на войне, – самые замечательные люди, старина, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь.
ДОСТОЕВСКИЙ. Как это верно, голубчик, как верно! Сибирь и каторга! Я только там, голубчик, Христа понял… русского человека понял… Ах, если бы вас на каторгу!
Достоевский наливает Хемингуэю и себе. Ницше показывает, что у него есть.
ХЕМИНГУЭЙ. Вот теперь вы молодец! Вам бы еще пару контузий, vieux. (Показывает нашивки за ранения)
НИЦШЕ. Созрел тост! (Встает)
ЕФРЕЙТОР. Хэлё, русланд мафия! Кофе, шнелле!
НИЦШЕ. Во время кампании 1865 года я… я был под Садовой… Как изменилась моя душа! (Рвет с себя платье, от которого, впрочем, остается кружевной воротничок) Я стал мужем среди мужей, немцем, гордым своей родиной. Только война способна преобразить человечество, только она может поселить в нем стремление к героическому и высокому. Лирические поэты и мудрецы, непонятные и отвергнутые в годы мира, побеждают и привлекают людей в годы войны: люди нуждаются в них и сознаются в этой нужде. Необходимость идти за вождем заставляет их прислушиваться к голосу гения. Ну, за все, что нас не убивает! Слава Дионисию!
ЕФРЕЙТОР. Кросафчег! Я плакаль, господа… Lieber, Lieber Фридрих!.. Я получаль железный крест мой бедная юношть… Перед лисцом сей великий тшель никакие жертфы не есть слишком польшой.
ДОСТОЕВСКИЙ. В долгий мир и наука глохнет. (Пьет)
ЕФРЕЙТОР. Я есть говорить о мир, имея такшический цел. Дыск пацифишн запылэн со страшной сылой!
ХЕМИНГУЭЙ. Как наш ангел мира-то заговорил!
ЕФРЕЙТОР. Болше и болше насилия есть! Эй, бабка, кура, млеко, яйки, партизанен!! Satan, Satan, Sieg Heil! Sieg Heil! Satan, Satan! Оi oi oi Satan, Satan! Nicht Kapituliren, Sieg Heil!
НИЦШЕ. Завел свой хип-хоп!
ДОСТОЕВСКИЙ. Это у него – всегда так неожиданно начинается.
ХЕМИНГУЭЙ. Какая гадость! Какая гадость… эта ваша философия, девчонки… (Закручивает содержимое по часовой стрелке и вливает в горло) Вот что, ефрейтор… А собачку я тебе не дам!.. (Отнимает собачку) Не верю я в твое вегетарианство!
ЕФРЕЙТОР. Твой пьян!
ХЕМИНГУЭЙ. (собачке) Да, я пьян, vieux. Я здорово пьян. Черт, ну и накачался же я! Я плохо разбираюсь в науке о питании, да и не люблю ее. Но что такое фашизм, я знаю, старина. Фашизм – ложь, у него нет будущего, и когда он уйдет в прошлое, у него не будет истории, кроме кровавой истории убийств.
ДОСТОЕВСКИЙ. Я же, кажется, просил…
ХЕМИНГУЭЙ. Я только пытаюсь донести до собачки простую мысль о том, что те, кто наживается на войне и способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.
ДОСТОЕВСКИЙ. Меня один раз тоже чуть не расстреляли…
ХЕМИНГУЭЙ. Один раз не считается.
ЕФРЕЙТОР. (строго взглянув на Ницше и гладя по руке Достоевского) Мироффой эффрейство и его приспешник есть благодарин.
ХЕМИНГУЭЙ. Да, кстати, если найдутся доказательства, что я сам каким-либо образом повинен в начавшейся бойне, – пусть и меня, как это ни печально, расстреляет тот же стрелковый взвод, а потом пусть меня похоронят в целлофане или без, или просто бросят мое голое тело на склоне горы.
ЕФРЕЙТОР. Карашо сей казаль!
ДОСТОЕВСКИЙ. Ну, это уже, извините, Толстой какой-то…
НИЦШЕ. Не к ночи будь помянут…
ХЕМИНГУЭЙ. Толстой был храбрый артиллерийский офицер. А что вы, Федор Иванович, знаете об этом непрекращающемся, наглом, смертоубийственном, грязном преступлении без наказания, которое представляет собой война? Когда миллионы таких вот, в серых мундирах, налетают на сонные города, как саранча…
Достоевский бледнеет.
ЕФРЕЙТОР. Он плиохо будейт!
Тут все оборачиваются и видят истинную причину припадка Достоевского: входит НАБОКОВ.
НАБОКОВ. Кто налетит, вы сказали?
ХЕМИНГУЭЙ. (выходя из-за стола) Кузнечик. То, что мы в Америке называем кузнечиком, – это та же саранча.
Хемингуэй подходит к Набокову и наносит ему в челюсть сначала хук слева, а потом хук справа.
НАБОКОВ. (устояв на ногах) Любопытно, коллега! (Бьет Хемингуэя кулаком в грудь, а потом чуть ниже глаза)
ХЕМИНГУЭЙ. (потирая глаз) Настоящий кузнечик маленький, зеленый и довольно слабенький. Его не надо путать с саранчой или цикадой, которая издает характерный непрерывный звук, сейчас только я не могу вспомнить какой.
НАБОКОВ. Постарайтесь, пожалуйста…
ХЕМИНГУЭЙ. (обходя Набокова по кругу) Стараюсь вспомнить и не могу. Мне уже кажется, что я его слышу, а потом он ускользает. Вы меня извините, джентльмены, но я прерву наш разговор.
Хемингуэй наносит Набокову длинный боковой удар левой.
Набоков хватается за его пиджак и отрывает второй рукав, а Хемингуэй бьет его два раза по уху левой и потом, оттолкнув от себя, наносит прямой удар правой.
Набоков садится на пол.
ЕФРЕЙТОР. Зочем твой травите пейсателя?
ДОСТОЕВСКИЙ. А теперь заплачьте и обнимитесь.
ХЕМИНГУЭЙ. Я не плакал, когда оконная рама упала мне на голову, не плакал, когда Бэмпи ткнул меня пальцем в глаз…
ДОСТОЕВСКИЙ. Видно, что вы были серьезно ранены.
ХЕМИНГУЭЙ. В разные места. Если вас интересуют шрамы, я могу показать очень интересные, но я предпочитаю продолжить о кузнечике. То есть о том, что мы у нас в Мичигане называем кузнечиками, а на самом деле это саранча. Это насекомое одно время занимало большое место в моей жизни. (Набокову) Возможно, вам это тоже будет интересно…
Набоков отрицательно качает головой.
ХЕМИНГУЭЙ. Что-нибудь имеете против меня и моего друга?
НАБОКОВ. Против тебя нет. Всемирно известный американский писатель и прогрессивный общественный деятель, лауреат Нобелевской премии.
ХЕМИНГУЭЙ. А моего друга?
НАБОКОВ. Великий правдоискатель! Гениальный исследователь больной человеческой души…
ХЕМИНГУЭЙ. Давно бы так… Вы уж простите меня, старина… Это начинается всегда так неожиданно…
Набоков кивает.
ЕФРЕЙТОР. Я тоже есть получать контузия Первый мировой, но я не биль дикарь! Сей быль зутулый штудент. Я есть уважать культуришь! (Тыкает себя пальцем в грудь).
ДОСТОЕВСКИЙ. (Хемингуэю) Давно это у вас?
ХЕМИНГУЭЙ. С той ночи под Сомой, когда меня оглушило взрывом…
ДОСТОЕВСКИЙ. Каторга лучше.
ХЕМИНГУЭЙ. Куда лучше, старина. Когда человек едет на фронт искать правду, он может вместо нее найти смерть.
ДОСТОЕВСКИЙ. Нет, я жизнь люблю! Слишком уж жизнь полюбил, так слишком, что и мерзко. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что… Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь… Понимаешь ли ты что-нибудь в моей ахинее, Хэмушка, аль нет?
ХЕМИНГУЭЙ. Слишком понимаю, Федор Михалыч, нутром и чревом хочется любить, прекрасно ты это сказал… Но зато, когда на войну едут двенадцать, а возвращаются только двое, правда, которую они привезут с собой, будет действительно правдой, а не искаженными слухами, которые мы выдаем за историю.
Набоков встает, потирая челюсть, прислушивается к разговору, зевает, потом, заглянув под стол и тихонько свистнув, медленно уходит, унося с собой рукав Хемингуэя.
НИЦШЕ. Необходима новая совесть, чтобы расслышать истины, прежде молчавшие.
ЕФРЕЙТОР. Совешть выдумка эффрей есть!
НИЦШЕ. А я думаю, что немцы вошли в ряд одаренных наций лишь благодаря сильной примеси славянской и еврейской крови.
ЕФРЕЙТОР. (садится) Саша не слишать сей! Зер гуд!
НИЦШЕ. Сестра всегда была шовинисткой. Она и меня не переставала мучить и преследовать… (Отрывает кружевной воротничок.)
ЕФРЕЙТОР. О сестре! Майне Гот! Бедный, бедный Фридрих. Крыша совсем есть съезжать!
НИЦШЕ. Проклятое антисемитство стало причиной того, что Саша так и не вышла за меня.
ХЕМИНГУЭЙ. Черти… Голова у меня от вас раскалывается.
НИЦШЕ. Беги, мой милый Хем, в свою финку Вирджинию: я уже вижу тебя искусанным ядовитыми кузнечиками. Ты жил слишком близко к маленьким жалким насекомым. Они – бесчисленны, и не твое назначение быть сеткой для саранчи…
ХЕМИНГУЭЙ. И то верно! Решено! Едем на Кубу… И Фредди возьмем. Достоевский про Карамазовых что-нибудь еще, это… (Делает боксерский жест.)
ДОСТОЕВСКИЙ. Ничего, ничего, голубчик! Съешьте супцу… Карамазовы… эта книга… Она так много для меня значит…
ХЕМИНГУЭЙ. Вы в ней совсем другой…
ДОСТОЕВСКИЙ. Так это же роман провинциальный, а мысли военные – все больше городские, журнальные мысли, да и не мои это вовсе мысли…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

