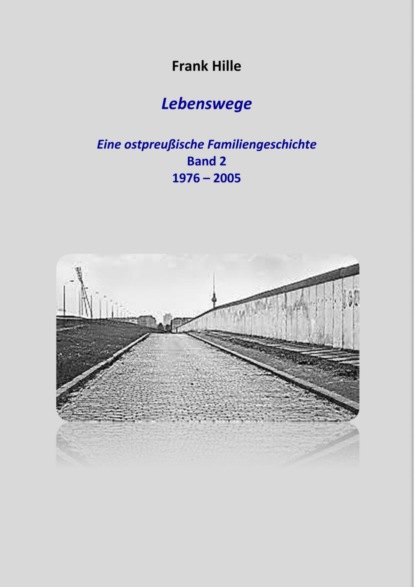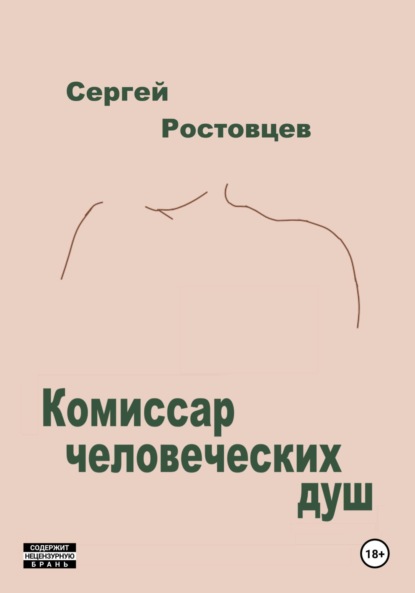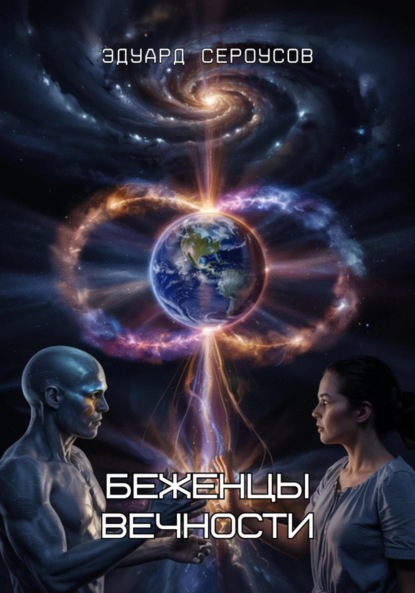Экономическая антропология. История возникновения и развития

- -
- 100%
- +

© Шишкина Т. М.
© ООО «Издательство АСТ»
Введение
В книге, которую вы сейчас держите в руках, рассказывается об экономической антропологии – о том, как и почему она родилась почти сто лет назад, как внезапно стала популярной, перевернув представления о полевой работе и исследованиях племен, как оказалась втянута в борьбу двух идеологий и как, пережив полный новых надежд восход и бурную юность, столь же внезапно пошла на спад.
Экономическая антропология – исключительно приятный предмет как для изучения, так и для обсуждения. Появилась она только в начале ХХ века, а потому у нас достаточно много точных данных об условиях ее возникновения и о людях, стоявших у ее истоков. Зачастую сложно назвать точную дату рождения «большой» науки, например, экономики в целом, и куда проще определить появление конкретного направления. Так, представляет определенную сложность вопрос о том, можно ли называть Ксенофонта с его «ойкономией» или Аристотеля с «Хрематистикой» отцами-основателями экономической науки, или же они просто занимались философией, затронув некоторые вопросы, позднее ставшие предметом интересов экономической науки. Куда проще ситуация с кейнсианством, например, поскольку едва ли можно говорить о его появлении по меньшей мере до рождения самого Кейнса. С экономической антропологией вопрос и того легче – мы знаем конкретный год ее рождения, 1922-й. Но что же случилось в этом году, как и откуда вообще может появиться целое новое направление научной мысли? Попытаемся ответить на эти вопросы в первой главе.
Ясная и простая история возникновения, безупречный провенанс[1], как сказали бы любители изобразительного искусства – выгодное отличие экономической антропологии, делающее ее привлекательным объектом изучения для любого, решившего разобраться с тем, как же рождаются науки. Однако этим ее достоинства не ограничиваются.
Во-первых, читая об истории экономической антропологии, вы узнаете также и о том, как социальные и политические события влияют на академическую жизнь, которая не может и мечтать о том, чтобы спокойно существовать в высших сферах, бесконечно далеко от сиюминутных волнений и тревог нашего бренного мира. Казалось бы, экономическая антропология изучает архаические общества – что может быть дальше от социально-политических споров о рыночной экономике? Тем не менее на протяжении всего ХХ века экономическая антропология играла важную роль в работах критиков капитализма, а потом и глобализма, служа неисчерпаемым источником примеров об альтернативах капиталистической рыночной экономике. Само рождение экономической антропологии было неразрывно связано с изменениями, происходившими в колониальной системе конца XIX – начала ХХ веков, и во многом бросило вызов колониальной этике той поры.
Во-вторых, само существование экономической антропологии – своего рода чудо, так как экономика славится тем, что не любит допускать к своему предмету другие социальные науки. Как подметил нобелевский лауреат Герберт Саймон, экономика охотно экспортирует в другие науки свои знания и методы, но крайне тревожно относится к идее импортировать что-то у других. Экономическая антропология – счастливое исключение, это действительно междисциплинарная область, существующая на стыке двух наук. Если уж строгая экономическая наука решила обратить на нее свое внимание, возможно, она заинтересует и вас.
Наконец, в отличие от многих других научных работ, монографии по экономической антропологии зачастую представляют собой захватывающие дух истории о приключениях, читать о которых – сплошное удовольствие. Взять хотя бы «Аргонавтов западной части Тихого океана» Бронислава Малиновского[2] – это не только научный труд, создавший новую дисциплину и заложивший основы методологии полевой работы, но и увлекательная история о путешествиях одного, отличавшегося несколько авантюрным складом молодого ученого в Меланезии, где он одним из первых провел длительное полевое исследование. Описания природы далеких островов, опасных переходов на лодках по океану и жизни тробрианских племен у Малиновского сделают честь романам Жюля Верна, и, хотя можно возразить, что в научных работах значение формы неизменно уступает важности содержания, на мой взгляд, книга, которую читать легко и интересно, будь то научная монография или приключенческий роман, найдет свой путь к сердцу читателя быстрее и проще занудливых фолиантов.
Формальное знакомство
Прежде чем переходить к деталям, разберемся с общими определениями. Предметом экономической антропологии является изучение закономерностей организации экономической жизни и ее соотношения со всеми другими сферами жизни общества. Объектом – экономические институты и практики, а также материальные проявления культуры. Отсюда, строго говоря, и название: слово «экономическая» в нем отсылает не к экономической теории, а к экономической стороне жизни. В рамках экономической антропологии предполагается, что культура, верования, убеждения, политические принципы, этические стандарты и прочие элементы, из которых слагается жизнь общества, находят свое выражение в экономической деятельности. Представьте себе экономические практики как простой и прямой путь сквозь лабиринт сложных институциональных структур общества, пройдя по которому, можно набросать карту, которая потом позволит вернуться и внимательно изучить отдаленные уголки. Кроме того, экономические институты – это еще и очень удобный объект для изучения, поскольку у них есть материальные проявления, легко поддающиеся фиксации. В начале ХХ века, когда антропология столкнулась со стремительным исчезновением архаических сообществ под влиянием сначала колонизации, а потом и глобализации, появилась необходимость понять и записать как можно больше о жизни этих сообществ в сжатые сроки. В такой ситуации экономическая антропология, позволявшая легко, быстро и с высокой степенью точности зафиксировать материальные проявления культуры в повседневной жизни, быстро завоевала сердца многих ученых.
Косвенно на руку развитию этой междисциплинарной области сыграло и особое положение экономической теории в сонме социальных наук. Малиновский, фактически в одиночку разработавший основы методологии экономической антропологии, стремился сразу же утвердить ее как серьезную научную дисциплину и несколько отмежеваться от «кабинетной» антропологии XIX века, при всех ее достоинствах не способной похвастаться существенной опорой на полевые исследования и реальные факты. Экономическая теория на тот момент уже была негласно признана самой близкой к естественным наукам социальной дисциплиной, а естественные науки, в свою очередь, считались позитивистским идеалом научного знания. Сделав упор на экономическую сферу жизни общества и на материальную культуру, Малиновский смог вывести антропологию из тени университетских кабинетов в реальный мир.
Методологическая основа экономической антропологии состоит из трех взаимосвязанных частей: эмпирический подход, сравнительный метод и индуктивная логика. Главным источником данных с самого рождения этой дисциплины было эмпирическое наблюдение в ходе полевой работы. Приверженность экономической антропологии эмпирическому методу, иногда столь сильная, что может показаться, что исследователи намеренно избегают выдвигать предположения об общих закономерностях, во многом стала ответом на уверенность некоторых кабинетных антропологов начала ХХ века в существовании общих законов развития общества. Легко представить себе этот аспект истории антропологии как маятник, раскачивающийся между двумя крайностями: только теория или только эмпирические наблюдения. До работ Боаса, и в особенности Малиновского в 20-х годах ХХ века, маятник долгое время был оттянут в сторону теоретических изысканий. Антропологи той поры столь явно предпочитали обобщенные теоретические рассуждения, что получили прозвище «кабинетных», поскольку проводили исследования в своих кабинетах и университетских библиотеках, руководствуясь записями и дневниками путешественников, купцов и миссионеров, а также историческими источниками, подчас весьма сомнительной степени достоверности. Многие из этих ученых были приверженцами эволюционного подхода в антропологии, который представлял собой сплав из эволюционной биологии и исторического материализма и предполагал, что все общества проходят в своем развитии через примерно одни и те же стадии развития. Это означало, что, с одной стороны, в развитии обществ есть общие закономерности, поняв которые на примере одного общества, можно будет легко использовать их для анализа и понимания всех прочих. С другой стороны, что было особенно удобно для обоснования этической составляющей колониальной политики, такая эволюционистская логика выстраивала все общества в направленную прямую, от низших к высшим, причем колонизируемые страны неизменно оказывались на невыгодном конце этой линейки.
С началом эры длительной полевой работы маятник был отпущен и стремительно прилетел к другой крайности – только эмпирические исследования, – где вновь на какое-то время задержался. Главенство полевой работы означало, что выводы отныне получаются не из общих полуаксиоматических предположений, но достигаются в ходе движения от изучения частных проявлений к выявлению общих закономерностей, то есть индуктивным путем. К сожалению, этот метод, ошибочно названный Конан-Дойлем «дедукцией», имеет свои серьезные недостатки. Экономист и философ Джон Стюарт Милль в XIX в. несколько мрачно обозначил главную проблему с индуктивной логикой, заметив, что смерть других людей ничего не говорит нам о смертности конкретного герцога Веллингтона. В наши дни эта идея объясняется куда более радостной метафорой «черного лебедя», популяризованной в книге Нассима Талеба[3]. Независимо от того, ближе вам готический Милль или орнитологические сравнения Талеба, идея у них одна и та же: индуктивные наблюдения не имеют предсказательной силы. То, что вы видели сотню белых лебедей, не позволяет вам с уверенностью говорить о том, что все лебеди – белые. Вы можете лишь утверждать, что существует сто белых лебедей, однако это не мешает черному лебедю спокойно покачиваться на водах какого-нибудь далекого озера, где вам не представилось случая его увидеть. Проблема индукции в той или иной мере возникает перед любой наукой, и наиболее остро она стоит на ранних этапах развития дисциплины, когда господствующую роль играет наблюдение, а каркас теории еще только предстоит построить. На первом этапе экономической антропологии эта проблема во многом подкрепила склонность делать больший упор на описание, чем на анализ, предполагающий выведение таких индуктивных обобщений.
Наконец, третьим китом, на котором держится экономическая антропология, стал сравнительный метод. Начиная с самого своего рождения, экономическая антропология стремилась выстроить сеть сравнений и сопоставлений между туземными и западными обществами, причем преследовала в этом три главные цели.
Во-первых, исследователи вроде Малиновского обращались к европейскому обществу в поисках знакомых метафор и сопоставлений, которые позволили бы перекинуть мост между разными культурами и сделать туземные реалии более понятными западному читателю. Одно дело читать о далеком и малопонятном институте обмена дарами кула, где загадочные тробрианцы бережно передают из рук в руки свои таинственные ценности. Совсем другое, если автор, как Малиновский, вначале напомнит о том, как спортивные команды передают друг другу чемпионский кубок, а потом уже скажет – тробрианцы примерно так же передают друг другу во временное владение особые предметы (ведь и спортивный кубок тоже – особый предмет).
Вторая, и, возможно, наиболее важная с научной точки зрения цель использования сравнительного метода – сопоставляя институты, практики, традиции, верования или явления, мы можем больше узнать о них самих и о том контексте, в котором они существуют. Зачастую сравнение приводит к рождению новых идей, необычное сопоставление позволяет взглянуть на процесс или объект под новым углом.
Наконец, с легкой руки Мосса, многие представители экономической антропологии стремились сравнить институты современных рыночных обществ с туземными, архаическими или средневековыми, найти в них корни наших повседневных экономических практик и сделать какие-то (обычно неутешительные) выводы о рыночной экономике и капитализме. Критическая, социальная сторона экономической антропологии играла в ее развитии важную роль, и мы поговорим о ней уже во второй главе.
У каждого метода есть недостатки, и сравнительный метод не стал исключением. Начиная с первых антропологических работ об экономических институтах, исследователи отмечали, что необходимо с величайшей осторожностью использовать категории экономической теории, разработанные для анализа рыночного западного общества, при описании архаических и туземных сообществ. В середине ХХ века эту сложность четко сформулировал Карл Поланьи, обозначивший ее как контроверзу, или спор, между субстантивистами и формалистами – с разговора об этом начнется вторая часть этой книги.
Рождение науки как преступление
На примере экономической антропологии мы увидим, как рождаются и развиваются научные дисциплины. Разумеется, это далеко не первая книга о рождении наук, поскольку вопрос происхождения играет для человека особую роль. Нам интересно знать, откуда мы пришли, и ученые тут не исключение. Хотя существует множество теорий о том, как и почему рождаются дисциплины, случай экономической антропологии, на мой взгляд, лучше всего описывает правило не из философии науки, а из детективных романов: для ее появления, как и для совершения преступления, в одних руках должны были сосредоточиться мотив, средство и возможность. Так случилось, что все три условия оказались примерно в одно и то же время в распоряжении сразу двух людей – Бронислава Малиновского и Марселя Мосса. Более того, эти два совершенно разных человека, жившие в разных странах и увлекавшиеся разными направлениям социальных наук, практически одновременно обратили свое внимание на один и тот же институт – дарообмен.
На протяжении всего своего развития экономическая антропология была тесно связана с исследованиями дарообмена, или, как его еще иногда называют, института реципрокности (от английского reciprocity, буквально: возмездности, взаимности). А началось все с того, что с разницей в два года Малиновский и Мосс выпустили два труда о дарообмене: Малиновский опубликовал подробный отчет о своем полевом исследовании дарообмена кула, что распространен в Меланезии, около Папуа – Новая Гвинея, а Мосс выпустил сравнительный анализ случаев дарообмена, встречавшихся в разных странах и в разные эпохи. Его «Очерк о даре» быстро стал программным трудом и до сих пор остается одной из самых цитируемых книг в антропологии в целом, а «Аргонавты западной части Тихого океана» Малиновского[4] заложили основы всей современной методологии полевой работы. Каждый из них оказался, в своем роде, отцом-основателем: один предложил предмет, а второй разработал метод.
После выхода этих книг, ставших сенсациями в социальных науках своей эпохи, дарообмен проснулся знаменитым. Сложно сказать, сыграло ли тут большую роль исключительная харазиматичность молодого профессора Малиновского, вернувшегося из Меланезии настоящей звездой британской антропологии, или более спокойное, но тем не менее необоримое очарование Мосса, ставшего главной фигурой французской социологии, но факт остается фактом – в один момент все глаза антропологов обратились к дарообмену. И стоило однажды на него указать, как стало невозможно перестать его замечать. Дарообмен оказался вездесущим институтом, принципом устройства мироздания, ключом к пониманию культуры. Внезапно оказалось, что на первый взгляд обычный обмен дарами, знакомый каждому и кажущийся незначительным и простым элементом социальной жизни, в архаических и туземных обществах играл гигантскую роль, был фундаментом, на котором выстраивалась едва ли ни вся жизнь общества. Опасные торговые экспедиции осуществлялись из-за обмена дарами, ради него развертывалось бурное производство и строительство. Выяснилось, что политическая жизнь вращается вокруг дарообмена, с его помощью заключаются мирные договоры и утверждается социальная иерархия внутри племени, наконец, даже верования были связаны с ним. Еще удивительнее, что дарообмен играл такую роль в сообществах, никак друг с другом не связанных – его исследовали в Океании и у североамериканских индейцев, а специалисты по исторической антропологии находили его следы в сагах и судебниках Древней Скандинавии. За более чем сотню лет своей истории экономическая антропология обращалась ко многим вопросам, однако неизменным оставался неутихающий интерес к дарообмену. Можно сказать, что для экономической антропологии, состоящей из стольких направлений, дарообмен оказался краеугольным камнем, удерживающим вместе весь свод. В течение ХХ века экономическая антропология привлекала не только антропологов, но и социологов, философов, историков и экономистов, и исследования дарообмена стали своего рода визитной карточкой, секретным знаком, по которому члены тайного общества узнают друг друга.
Оглядывая столетнее развитие науки с высоты того, что мы знаем сейчас, легко представить его как неизменное и уверенное движение вперед, прямую многополосную автостраду, тянущуюся до самого горизонта. Такая картина выглядит красиво и вселяет внутренний душевный покой любителям порядка и гармонии, однако с бурной, живой и полной ошибок реальностью она имеет мало общего. Поэтому я попрошу вас представить себе не дорогу, а извилистую реку, от которой отходит множество притоков. Представьте гребца, плывущего по этой реке в весельной лодке. Иногда наш гребец полон сил, и тогда весла взлетают вверх быстро и легко, иногда он устает, и тогда весла поднимаются вверх неохотно и медленно, иногда течение может снести его в сторону или незаметно развернуть лодку ночью, пока он спит, а порой и он сам может заплутать в тумане и на время сбиться с пути, так, что, свернув в один из притоков, приходится потом возвращаться назад. Некоторые удары его весел продвигают лодку вперед сильнее прочих. На таких главных, самых сильных движениях и поворотных моментах мы и остановимся.
На первом этапе развития экономической антропологии всё было просто: два ученых (Мосс и Малиновский), два подхода и как итог две научные школы: британская и французская. Но ближе к середине ХХ века ситуация начала меняться, появились новые ветви, а сформировавшиеся школы начали пересекаться друг с другом, постепенно сливаясь в одну. Кабинетная антропология как феномен стала уходить в прошлое и большинство сторонников Мосса начали следовать заветам Малиновского о полевой работе. Одновременно с этим отчетливее стала звучать сочиненная Моссом мелодия о социальной критике капитализма, сначала робко, а потом все увереннее заговорили о возможности предложить альтернативу неоклассике. Дарообмен превратился в своего рода утопию, мифологизированную противоположность товарообмену, с помощью которой можно было показать как проблемы капитализма, так и альтернативу ему.
Хотя идеи Мосса вдохновили великое множество ученых, во второй части этой книги мы сосредоточимся на трех, оказавших самое большое влияние на развитие экономической антропологии – Карле Поланьи, Маршалле Салинзе и Жане Бодрийяре. Их работы мостом перекинулись между ранними набросками начала века и уже полноценной, зрелой экономической антропологией, ставшей в наши дни самостоятельным направлением мысли.
Очень условно и с большими оговорками можно назвать упомянутых выше ученых представителями второго этапа экономической антропологии. А где второй, там и третий, о котором и пойдет речь в заключительной части. Для представителей третьего этапа экономической антропологии анализ дарообмена стал стартовой площадкой для размышлений о современном обществе и поиска неких общих, универсальных оснований экономического поведения людей, которые с переходом к рыночному капитализму не исчезли, а лишь переоделись согласно новой моде. В третьей части книги мы поговорим о Мэри Дуглас и Бароне Ишервуде – уникальном союзе антрополога и экономиста, решивших разобраться в том, какую роль обмен и потребление играют в современной жизни. Экономисты, мягко говоря, не славятся своей страстью к междисциплинарным работам, так что их книга – редкий пример успешного межвидового сотрудничества. Затем мы обратимся к Крису Грегори, который стал еще большей редкостью: профессиональным экономистом, оставившим родную науку ради антропологии. Мы разберемся с тем, как и почему он попытался возродить классическую политическую экономию с помощью экономической антропологии и исследований дарообмена и что вышло из его амбициозной затеи. В последних двух главах мы поговорим о Пьере Бурдьё и Дэвиде Гребере, собравших и обобщивших большинство работ по экономической антропологии и попытавшихся – каждый по своему – создать из уже знакомого материала что-то совершенно новое.
Конечно, в реальности в экономической антропологии, как и в любой науке, не было таких четких разделений на периоды и школы. Границы между французской и британской школами или тремя этапами развития экономической антропологии – это не обнесенный колючей проволокой четырехметровый забор, находящийся под неустанной охраной. Скорее они похожи на границу между современными Нидерландами и Бельгией – условный разделительный знак, который можно без лишних проблем пересечь, если вам хочется использовать метод или идеи из другой школы.
На протяжении всей своей истории экономическая антропология была исключительно открытой дисциплиной, обращающейся одновременно и к научному сообществу, и к не связанным с академическим миром людям, которым было любопытно, что происходит в отдаленных уголках нашей планеты, в пучинах прошлого и в наши дни с нашим собственным обществом. Поэтому и эта книга написана для широкой аудитории. Для ее чтения вам не понадобиться предварительного знания экономической науки, социологии или антропологии. Все теории, на которые ссылаются ученые, о которых пойдет речь, подробно объясняются прямо на месте, специальные термины безотлагательно получают понятные определения, а каждому заковыристому вопросу полагается по ответу и наглядному примеру. Эта книга написана с твердым убеждением, что даже самые сложные теории можно объяснить просто, ясно и четко, что наука по самой своей природе призвана помочь нам понять мир вокруг. Повествование специально организовано так, чтобы каждую из глав можно было читать как отдельный, независимый текст. С другой стороны, эта книга будет интересна и студентам и специалистам; она работает как прекрасное введение в экономическую антропологию и была написана на основе моего кандидатского исследования и университетского курса, который я два года вела в СПбГУ. Наконец, кроме академической полезности, я надеюсь, что читать эту книгу вам будет так же интересно и весело, как мне было ее писать.
Часть 1
Отцы-основатели
Глава 1
Бронислав Малиновский и рождение полевой экономической антропологии
Если вы живете в Англии в 20-х годах ХХ века, хотите провести полевое антропологическое исследование и ищите того, кто мог бы вас этому научить, то Бронислав Малиновский – именно тот, кто вам нужен. Строго говоря, он едва ли ни единственный, кто может вам помочь. Из первой части этой главы вы узнаете о том, как молодому ученому-эмигранту удалось создать целое новое направление в науке и разработать методологию проведения полевых исследований, которую с небольшими изменениями используют до сих пор. Предложенная Малиновским научная система была маленькой революцией – она призывала полностью пересмотреть не только метод, с помощью которого исследовались туземные сообщества, но и сложившуюся этику взаимодействия с ними. Для того чтобы в самом центре колониального мира – Британской империи – могла появиться новая антропология, нужен был человек, способный не просто бросить вызов сложившимся представлениям, но и предложить альтернативный путь развития и повести по нему за собой других. То есть понадобился профессор Малиновский.
Бронислав Малиновский родился в 1884 году в Кракове. Краков той поры – это небольшой польский город с бурной культурной и интеллектуальной жизнью, часть Австро-Венгерской империи. В отличие от многих случаев, когда упоминание о родном городе ученого встречается в его биографии как дань некой информационной вежливости, австрийской принадлежности Кракова было суждено сыграть в научной карьере Малиновского важную роль, став первым звеном в цепочке событий, приведшей к тому, что он стал одним из основателей экономической антропологии, возможно, самым известным сторонником функционализма и разработчиком методологии полевых этнографических работ в целом. Кем же был человек, перевернувший мир антропологии? Ответить на этот вопрос не так-то просто.