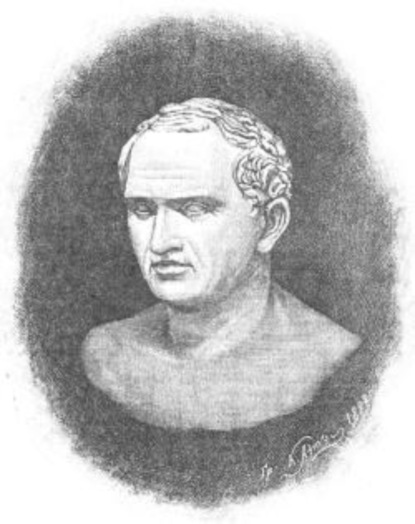Танец на крови

- -
- 100%
- +
Именно в этот момент, когда Лера дразнила Женю, а он краснел до корней волос, Катя увидела его – мужчину в куртке цвета мокрый асфальт, который вышел из спорткомплекса и, не глядя на них, прикрепил к пробковой доске объявлений, испещренной пожелтевшими бумажками о продаже хоккейной формы, тот самый белый лист.
«Требуются официантки. Ресторан «Тихоокеанский». Оплата в валюте».
Буквы плясали у нее перед глазами, сливаясь с пятнами старости на ее коньках. Она слышала, как Лера ахнула, почуяв запах возможностей, как Женя что-то протестующе пробормотал, но для Кати это был уже не просто листок бумаги. Это был мост, перекинутый через пропасть между рыхлым, темным льдом КДФ и сияющим, но опасным миром, где правил криминал. Мир, который мог либо сломать ее, либо дать шанс – не просто выжить, но и лететь дальше, на новых, острых, купленных за валюту коньках.
Решение созрело в ней не как внезапное озарение, а как тихая, неумолимая кристаллизация, подобная льду, сковывающему ноябрьский залив; оно рождалось из каждого скрипа двери их квартиры, из каждого вздоха Анны Петровны, при свете керосиновой лампы, пересчитывающей пухлую пачку обесцененных советских рублей, из каждой трещинки на стертых носках ее коньков, которые уже не могли резать лед, а лишь бороздили его, словно плуг по мерзлой земле.
Они шли обратно, троица, по улице Фокина, где ветер с Амурского залива гулял насквозь, забираясь под тонкую куртку Кати и заставляя ее сжиматься; Женя, шагавший слева, все пытался о чем-то говорить, о новых моделях «Жигулей» или о том, что в порту видели американский авианосец, но слова его терялись в грохоте разбитой «девятки», из которой орал Шуфутинский. Лера, напротив, шла молча, но ее глаза горели хищным, заинтересованным огнем, и Катя знала – подруга уже мысленно примеривала на нее черную юбку с кружевами и фартук официантки из того самого «Тихоокеанского».
«Это ведь не навсегда, – уговаривала себя Катя, глядя на свои руки, покрасневшие от холода, на ногти, обгрызенные от нервов. – Только на пару месяцев. Только чтобы купить новые коньки, заплатить за свет… Помочь ей».
Мысль о том, чтобы войти в это логово, в этот ресторан, который все знали как место, где «центровые» решают свои дела, вызывала у нее тошнотворный спазм где-то в горле; она вспоминала обрывки разговоров взрослых о том, как там «мочат» друг друга, о стрельбе, о девках в шелковых платьях, которых привозили чуть ли не из Москвы. Но тут же всплывала и другая картина: Анна Петровна, опустившая глаза, и тот самый, прозвучавший как приговор, шепот: «…пятьсот баксов…».
Они дошли до перекрестка, где путь их расходился: Женя – налево, в свой панельный дом с видом на дымящие трубы завода «Конус», Лера – направо, в чуть более благополучный район, где жили офицеры с семьями. Катя остановилась, глядя прямо перед собой, на ту самую горку, с которой был виден кусочек порта и неоновая вывеска «Тихоокеанский», мерцавшая в сгущающихся сумерках, как глаз циклопа.
– Ладно, побегу, – бросила Лера, сжимая ее руку на прощание. – Ты подумай. Это же шанс, Кать! Там, говорят, чаевые одни – сотню баксов за вечер! Мы с тобой в «Барже» оторвемся!
Женя промолчал, лишь его взгляд, полный немого укора и обреченности, сказал все за него: он видел, как что-то хрупкое и чистое, что он так берег в своей душе, готово было разбиться.
Когда они ушли, Катя осталась одна с ветром и воем сирены где-то вдали. Она достала из кармана смятый, но бережно сложенный листок с объявлением. Бумага была холодной, почти ледяной. Она провела по ней пальцами, ощущая шершавость типографской краски, и представила, как этими же пальцами будет держать пачку хрустящих, пахнущих чужим миром, долларов.
«Простите меня, – мысленно обратилась она к призракам родителей, чьи лица уже начали стираться в памяти, остались лишь ощущения: тепло маминых рук, запах папиного одеколона. – Но я не могу иначе. Я должна».
И она резко дернув плечом, словно сбрасывая с себя невидимые оковы, развернулась и пошла домой. Шаг в подъезд был похож на возвращение с чужой войны – Катя несла в себе не радость победы, а тяжелое, липкое предчувствие грядущих битв; каждый скрип половиц под ногами отдавался в ней эхом будущего спора, а свет, пробивавшийся из-под двери кухни, казался не уютным пристанищем, а прожектором дозорного на вышке.
Решение созревало в ней медленно и мучительно, обрастая слоями страха, стыда и отчаянной решимости, пока не превратилось в твердую, неоспоримую данность, которую она, зайдя в свою комнату и захлопнув за собой дверь, наконец признала вслух, тихо, но четко: «Я пойду». Эти слова повисли в затхлом воздухе, смешавшись с запахом старой бумаги от книжных полок и воска от паркета, который когда-то так старательно натирал ее отец, и Катя почувствовала, как внутри что-то обрывается, будто лопнула последняя нить, связывающая ее с тем, безопасным, прошлым. Она подошла к шкафу, куда, на самую верхнюю полку, клала свое сокровище и боль – те самые коньки, и, держа их, она ощутила под пальцами не просто шершавую кожу, а шрамы всей своей жизни.
Мысль о «Тихоокеанском» вызывала у нее ледяную дрожь, ведь все во Владивостоке знали, что это не просто ресторан, а своеобразная «штаб-квартира» местной «братвы», место, где по вечерам лились реки спиртного и звучали выстрелы, приглушенные дорогими коврами, но при этом слухи о зарплатах там, которые платили зелеными, хрустящими долларами, а не обесценивающимися купюрами с Лениным, казались единственным маяком в кромешной тьме безысходности. Она представляла себе лицо Анны Петровны, ее молчаливое осуждение, полное разочарования, ведь для нее, женщины старой закалки, пойти «в обслуживание» к бандитам значило предать все идеалы, на которых они росли, но Катя снова взглянула на свои коньки, на ту самую зияющую дыру внутри, и поняла – идеалы не согреют и не накормят, не оплатят свет и не купят новые лезвия, способные выдержать прыжок тройной аксель.
Выйдя на кухню, где Анна Петровна задумчиво, чистила единственную картофелину на ужин, Катя, не глядя на нее, проговорила слова быстро, словно боялась, что голос ее предательски дрогнет – Я нашла работу в «Тихоокеанском». – Наступила гробовая тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем часов на стене, и Катя чувствовала, как по спине у нее бегут мурашки, а сердце начинает колотиться.
– Дурочка, – наконец прошептала Анна Петровна, и в ее голосе не было злости, лишь бездонная усталость и горечь, – ты хоть понимаешь, куда лезешь? Это же гибель, Катя!
– А здесь что? – внезапно сорвалась Катя, впервые за долгие месяцы позволив себе крик, в котором смешались и боль, и отчаяние, – Здесь медленная смерть! Я не могу больше смотреть, как ты считаешь копейки, как мы гасим свет и экономим на хлебе! Я не могу кататься на этом… этом уроде!, – она с силой ткнула пальцем в свои коньки, лежавшие на столе. – Мне нужны деньги, тетя Аня. Не на шубы, как Лере, а на лед. На мою мечту. И если за нее придется платить вот так… значит, я заплачу.
– Обсудим это, Катерина. Это не работа, птица моя, это прыжок в пропасть с закрытыми глазами, и ты даже не представляешь, насколько глубоко там падение.
Катя, чувствуя, как по спине бегут мурашки, но не в силах отступить, ибо отступление для нее теперь было равносильно поражению, подняла на тетю взгляд, в котором смешались вызов и мольба.
– А что мне делать? Сидеть и ждать, когда нас с квартиры выставят? Смотреть, как ты одну картошку третий день на ужин чистишь? Я не слепая!
– Лучше картошка, чем продавать себя! – голос Анны Петровны дрогнул, впервые за долгие годы, и это было страшнее любого крика. – «Тихоокеанский»… Да ты знаешь, кто там бывает? Знаешь, что с девчонками, которые туда на заработки идут, потом случается? Их находят, Катя! Находят в порту, в воде, с…. – Она не договорила, сжав кулаки, и ее лицо, обычно строгое и собранное, исказила гримаса настоящей, животной боли.
– Я буду просто работать, – упрямо прошептала Катя, ощущая, как в горле встает ком, – просто носить подносы, и все. Мне нужны деньги на коньки, на сборы. Я не стану как они.
– Коньки! – Анна Петровна с силой ударила ладонью по столу, и чашки подпрыгнули. – Ты думаешь, они дадут тебе спокойно кататься? Там свои законы, Катя! Там, в этом «центравом», нет места ни спорту, ни чести! Там одна грязь, кровь и алчность, которые тебя сожрут, не поперхнувшись! Я не для того тебя растила, не для того от всех отбивалась, чтобы ты сейчас в это болото пошла!
– Но я… просто хочу заработать… – Катя не успела закончить, как Анна Петровна перешла на крик.
– Молчать! – Анна Петровна вскинула голову, и в ее глазах, обычно таких спокойных и мудрых, пылал настоящий, неподдельный ужас. – Ты понимаешь, куда ты собралась? Это не кафе-мороженое! Это логово, Бурый и его шпана! Они тебя там сожрут за один вечер! Ты думаешь, они платят доллары за разливание водки? Нет! Они платят за молчание, за услуги, за… – она запнулась, сглотнув ком обиды и гнева. – Я не позволю. Ты слышишь? Никогда.
В ее словах была не только злость, но и отчаянный, последний страх женщины, потерявшей однажды семью и понимающей, что вот-вот может потерять и ту, что стала ей дочерью.
– Ты растила меня сильной! – выкрикнула Катя, вскакивая, и слезы наконец потекли по ее щекам, горячие и соленые. – Так вот я и поступаю, как сильная! Я не жду милости, я не молю о помощи – я иду и беру то, что мне нужно, чтобы выжить! Чтобы мы выжили!
– Нет, – прошептала Анна Петровна, и ее голос вдруг стал старческим, надтреснутым. – Я дала им слово, твоим родителям. Что сохраню тебя, сделаю из тебя чемпионку, а не… шлюху для бандитов.
Это слово повисло между ними, огромное, уродливое, раскаленное докрасна. Катя чувствовала, как по ее щекам текут горячие слезы, но она не вытирала их, стоя как на допросе.
– Я не стану шлюхой, – выдохнула она, и каждая буква в этом слове давалась ей с трудом. – Я просто буду работать, чтобы купить новые коньки, чтобы мы могли платить за свет, чтобы ты не продавала последнее. Я сделаю это. С твоего позволения или без.
Она отступила на шаг назад, глядя на сгорбленную фигуру Анны Петровны, которая вдруг показалась ей невероятно старой и уставшей, и этот вид был больнее любых упреков.
– Я уже всё решила, – тихо, но неотвратимо, как приговор, сказала Катя, поворачиваясь к выходу, – Завтра я иду туда. Можешь меня не пускать, но я все равно уйду.
И она ушла в свою комнату, оставив за дверью гробовую тишину, нарушаемую лишь сдавленными рыданиями Анны Петровны, а за окном, в черном как смоль небе Владивостока, тускло светились огни порта, где уже вовсю кипела ночная, бандитская жизнь, в пользу которой она, Катя Васильева, сделала свой первый, отчаянный и окончательный выбор.
ГЛАВА 2
Ресторан «Тихоокеанский» оказался не тем местом, которое можно было просто найти по адресу; его приходилось скорее учуять по тяжелому, густому шлейфу, витавшему в переулке и состоявшему из перемешанных запахов пережаренного масла, дорогого табака, хмельного перегара и стойких духов, которые не перебивали, а лишь маскировали основную, животную вонь этого места. Само здание, некогда, претендовавшее на аристократизм, теперь стояло, облупленное и невыспавшееся, с темно-зелеными ставнями, закрывающими грязные окна, и с вывеской, где неоновые буквы, мигая неровным, болезненным светом, выхватывали из полумрака заляпанную грязью плитку у входа и пару роскошных иномарок, брошенных прямо у обочины.
Катя замерла в нескольких шагах от тяжелой двери, обитой черной кожей с отклеившимися уголками, и ее охватило чувство, близкое к животному ужасу, – инстинктивное, глубинное, исходящее из самого нутра, кричащее о том, чтобы развернуться и бежать без оглядки. Она стояла так минуту, ощущая, как холодный пот проступает на спине под тонким пальто, а сердце начинает отчаянно и неровно биться, посылая в виски болезненные уколы. Она уже сделала полшага назад, уже готова была поддаться панике, затопившей ее с головой, как вдруг дверь со скрипом отворилась, и на пороге возникла высокая, костлявая фигура мужчины в полосатой рубашке, с лицом, на котором застыло выражение скучающей неприступности.
– Ты чего тут вродишь, как столб? – его голос прозвучал хрипло и безразлично, будто он задавал этот вопрос чисто автоматически. – На работу пришла устраиваться? Али просто глазеть?
Катя, не находя слов, лишь кивнула, сжимая ремешок своей сумки.
– Ну, раз пришла, давай заходи, не задерживай клиентов, – он отступил вглубь, пропуская ее, и Катя переступила порог, чувствуя, как ее охватывает волна густого, спертого воздуха, насыщенного теми же запахами, что и снаружи, но здесь, в замкнутом пространстве, они были в разы концентрированнее, почти осязаемыми.
Ее глаза, привыкшие к серому свету улицы, с трудом различали интерьер: темно-красные обои с выцветшим золотым узором, столики с клеенчатыми скатертями, и длинную, мрачную стойку бара, за которой никого не было. Парень, пропустивший ее, жестом указал на один из столиков в углу.
– Садись. Сейчас девка придет, поговорит, – бросил он и удалился в глубину зала, оставив ее одну в этом полумраке, от которого веяло тоской и скрытой угрозой.
Она сидела, стараясь дышать ровно и не смотреть по сторонам, и в этот момент ее взгляд, сам того не желая, устремился к лестнице, ведущей на второй этаж. И там, в полумраке, прислонившись к перилам и скрестив на груди руки, стоял он.
Это был не тот тип мужчины, которого она могла бы представить в таком месте. В его позе – абсолютно расслабленной, но излучающей такую мощную, почти физически ощутимую энергию контроля и власти, что даже воздух вокруг него казался более плотным и неподвижным. Его волосы, цвета темного, почти черного меда, были коротко острижены, а лицо с резкими, словно высеченными из гранита скулами и твердым подбородком, оставалось невозмутимым. Но главное – это был его взгляд. Пара холодных, пронзительных глаз, цвета старого льда, пристально и без колебаний изучали ее, Катю, сидящую внизу, и в этом взгляде не было ни любопытства, ни оценки – был лишь спокойный, безразличный анализ, словно он рассматривал новый, незнакомый объект, появившийся в его владениях, и вычислял, какую потенциальную угрозу или пользу он может представлять.
Он не двигался, не менял выражения лица, и от этого его внимание казалось еще более тяжелым и невыносимым. Катя почувствовала, как по ее спине пробегают мурашки, и ей захотелось втянуть голову в плечи, спрятаться, исчезнуть. Но она не смогла отвести глаз. Она сидела, завороженная и напуганная одновременно, чувствуя, как под этим ледяным, всевидящим взглядом ее решимость тает, как лед под солнцем, а на ее место приходит трезвое, пугающее осознание: вот он. Тот, кто держит все это место под своим контролем. Тот, о ком шептались. Андрей Буров. И теперь он видел ее.
Внезапно его взгляд скользнул мимо, и Катя почувствовала, будто с нее сняли какие-то невидимые оковы. Она смогла, наконец, перевести дух и опустить глаза, заметив, как к ее столику направляется девушка с неестественно белыми волосами и ярким, но потухшим взглядом.
– Так, милая, – голос у нее был хриплым, будто простуженным от вечного сигаретного дыма. – Меня Людмила зовут, можешь называть Людой. Говоришь, на работу пришла? Опыт есть?
Катя покачала головой, с трудом подбирая слова:
– Нет… но я быстро научусь. Мне очень нужна работа.
Люда оценивающе осмотрела ее с ног до головы, задержавшись на лице.
– Красивая, это хорошо. Но здесь нужны не только глаза. Клиенты бывают… разные. Сумеешь постоять за себя?
– Я спортсменка, – с внезапной гордостью сказала Катя, и в ее голосе прозвучала сталь, которую она сама в себе не ожидала.
В этот момент из полумрака снова появился тот же парень, что впустил ее в ресторан. Он наклонился к Люде, что-то шепнул, бросив быстрый взгляд на лестницу, где по-прежнему стоял Бурый. Она кивнула, и ее выражение лица изменилось – стало более официальным, почти подобострастным.
– Ладно, – сказала она Кате. – Берем на испытательный срок. Смена с шести вечера до двух ночи. Оплата ежедневная. Завтра выходи. И смотри… – она наклонилась ближе, и Катя почувствовала запах дешевого коньяка, – никаких проблем. Ни с клиентами, ни с… нашими. Поняла?
Катя кивнула, не в силах произнести ни слова. Она украдкой бросила взгляд на лестницу, но он уже исчез, словно растворился в полумраке второго этажа. Осталось лишь ощущение его присутствия – тяжелое, давящее, но теперь смешанное со странным чувством… интереса? Возможно, даже вызова.
Когда она вышла на улицу, ее встретил тот же соленый ветер, но теперь он казался другим – не враждебным, а просто равнодушным. Она сделала это, переступила порог иного мира, и обратного пути не было. Завтра начнется ее новая жизнь – жизнь, в которой ей предстояло научиться существовать бок о бок с такими людьми, как Бурый, и при этом не потерять себя.
Следующим вечером Катя уже стояла на пороге новой жизни, которая разделилась на до и после. Войдя в служебный вход «Тихоокеанского», Катя попала в иное измерение, где воздух был густым коктейлем из запахов дорогого табака «Мальборо», стейков с кровью, которые могли себе позволить лишь избранные, и едкой химии для чистки зеркал, в которых с шиком отражалась новая, жестокая реальность; узкий коридор со стенами, обитым потертым бархатом, уводил вглубь, под аккомпанемент приглушенных звуков, из колонок лилась негромкая, но навязчивая мелодия группы Лесоповал, и эта песня, с ее манерой бандитской эпохи, звучала дополнением на фоне разудалого смеха «новых русских» в малиновых пиджаках.
Все та же Люда, девушка лет двадцати пяти с лицом уставшей актрисы и холодными, сканирующими глазами, оценивающими каждую новую девчонку на прочность и потенциальную выгоду, встретила ее, облокотившись на стойку с тетрадкой для записи; ее платье – черное, обтягивающее, с разрезом до бедра – и манера держаться, с легкой небрежностью поигрывая золотой цепочкой на шее, без слов говорили, кто здесь настоящая хозяйка вечера, пока реальные хозяева решали свои дела в вип-зоне на втором этаже.
– Так, Васильева…, – протянула она, пробежавшись глазами по ее заявлению, и губы тронула чуть заметная, снисходительная улыбка. – Шестнадцать… Маловато, конечно. Но вид… вид перспективный. Смотри, – она внезапно наклонилась к Кате, и та почувствовала густой, терпкий аромат духов «Красная Москва», смешанный с чем-то чужим, дорогим, – здесь твои сопли никому не нужны. Упадешь – сама поднимайся. Обольют – сама оттирайся. Клиент всегда прав, даже если он свинья последняя. Поняла?
Катя, сжимая влажные ладони, лишь кивнула, чувствуя, как комок нервного напряжения подкатывает к горлу; ее первая смена превратилась в адский марафон: поднос, с тяжелыми пивными кружками, выскальзывал из рук, заказы путались в голове, а ноги в неудобных лакированных туфлях, взятых напрокат у Леры, горели огнем, словно она бегала по раскаленным углям, а не по скользкому линолеуму с выцветшими разводами.
Именно в тот момент, когда она, споткнувшись о порог, едва не уронила поднос с дорогими закусками, ее взгляд случайно метнулся наверх, на ажурные перила вип-зоны, где в полумраке, подчеркнутом мягким светом бра, снова стоял он – Андрей Буров, и в это раз она смогла его лучше рассмотреть.
Ему было не больше девятнадцати, но во всей его позе – расслабленной, но готовой в любой миг к резкому движению, – чувствовалась власть, не по годам обретенная жесткость; он был одет не крикливо, как многие его подчиненные, а в простую темную водолазку и хорошие джинсы, лишь тяжелые золотые часы на запястье, холодный блеск в глазах, выдавали в нем не мальчика, а хозяина. Он облокотился на перила, наблюдая за суетой в зале, и его взгляд на несколько секунд остановился на Кате, на ее покрасневшем от усилия лице, на тонкой шее, напрягшейся под тяжестью подноса.
Андрей Буров, сын одного из местных «авторитетов», чье имя редко произносили вслух, но чье влияние пронизывало весь город, как ржавчина проедает сталь. Он не сказал ни слова, лишь чуть заметно кивнул через голову Кати в сторону Люды, одобрительно, словно ставя резолюцию на документе.
«Смотрит… Зачем? Чтобы посмеяться?» – пронеслось в голове, и она инстинктивно выпрямила спину, сжимая пальцами холодные бокалы, чувствуя, как предательская дрожь пытается пробиться сквозь напряжение в мышцах. Но в его взгляде не было насмешки – там читалось нечто иное: оценивающий, почти отстраненный интерес, будто он рассматривал не девушку, а сложную, но перспективную сделку.
Их взгляды встретились на долю секунды – ее, полный смятения и вызова, и его, темный и нечитаемый, – и в этот миг уголок его губ дрогнул в едва уловимом подобии улыбки.
Люда, поймав сигнал, тут же изменилась в лице; ее натянутая маска холодной начальницы смягчилась, и она, подойдя к Кате, коротко бросила:
– Смена до двух. Завтра в шесть, не опаздывай. И смени эти колготки – в дырах ходить не позволю. – И тут же отвернулась, растворяясь в толпе, оставив Кату наедине с осознанием того, что ее судьба здесь решается такими вот молчаливыми кивками, и что отныне между ней и этим опасным парнем с холодными глазами, протянулась невидимая, но прочная нить, которая может либо вытянуть ее из нищеты, либо затянуть в петлю.
Смена закончилась глубокой ночью, когда Владивосток из шумного базара превращался в территорию призраков и теней; часы на бывшем здании администрации, давно остановившиеся, показывали вечное безвременье, а по улице Светланской, освещенной лишь редкими керосиновыми лампами ларьков «кооператоров», гулял ветер с Золотого Рога, неся на своих крыльях запах ржавых судов и чего-то горького, словно привкус всеобщего разочарования.
Катя, едва волоча ноги в неудобных туфлях, шла по безлюдному тротуару, когда из подворотни у гостиницы «Версаль» вывалилась пьяная троица в кожаных куртках с нашивками «морг» – местной банды, известной своей жестокостью; один из них, детина с бычьей шеей и мутными глазами, шатаясь, преградил ей путь, и его дыхание, пропитанное сивухой, ударило в ноздри тошнотворной волной.
– Э, профура, куда спешишь? – просипел он, хватая ее за руку, а его дружки захихикали, окружив ее кольцом. – Давай-ка по-соседски пообщаемся, а?
Сердце Кати бешено заколотилось, отдаваясь в висках глухой, знакомой болью; она попыталась вырваться, но пальцы хулигана впились в ее запястье как стальные тиски, и в этот миг мир сузился до грязного асфальта под ногами и похабного смеха над ухом.
Из темноты, словно материализовавшись из самой ночи, бесшумно подкатила черная «Тайота» с тонированными стеклами; дверь открылась, и из нее вышел Бурый. Он не кричал, не угрожал – он просто встал рядом, и его молчаливое присутствие подействовало сильнее любой угрозы. Хулиганы разом притихли, узнав его; детина с бычьей шеей мгновенно отпустил Катю, и его лицо исказилось маской подобострастного ужаса.
– Братан, мы не знали, что это твоя… – залепетал он, пятясь назад.
– Проваливайте, – тихо сказал Бурый, и в его голосе не было ни злости, ни раздражения – лишь ледяная, безразличная уверенность в том, что его приказ будет выполнен. И они ушли, растворившись в темноте так же быстро, как и появились.
Андрей молча открыл перед Катей переднюю дверь. Та, все еще дрожа от испуга и унижения, машинально села в машину, и тут же салон наполнился знакомыми гитарными переборами – из магнитолы лилась «Группа крови» Виктора Цоя, и слова о «теплом местечке в тихой квартире» звучали горькой иронией в этой иномарке, пахнущей дорогой кожей и табаком.
Он вел машину молча, его профиль в свете редких фонарей казался высеченным из камня; лишь когда они подъехали к ее дому, он выключил музыку и повернулся к ней, его взгляд в полумраке был пронзительным.
– Ты думала, доллары с неба падают? – его голос был ровным, без осуждения. – На твоей улице после десяти ночи ходят либо мрази, либо те, с кем они разбираются. Ты к кому хочешь относиться?
Катя, глядя в окно на темные окна своей квартиры, где за одним из них, мучалась бессонницей Анна Петровна, почувствовала, как внутри нее закипает смесь стыда, гнева и неблагодарности.
– Я справлюсь… сама, – выдохнула она, хватаясь за дверную ручку.
– Нет, не справишься, – отрезал он, и в его тоне впервые прозвучали нотки чего-то, кроме холодного расчета, – Потому что ты – инвестиция. А свои инвестиции я всегда охраняю. Иди. Завтра не опаздывай.
И когда она вошла в подъезд, пахнущий кошачьей мочой и тоской, машина тронулась и растворилась в ночи, оставив ее наедине с гудящей тишиной и осознанием того, что отныне она чья-то собственность, чей-то актив, и что ее спасение было не проявлением доброты, а всего лишь защитой вложений. А из открытого окна, где-то на верхнем этаже, доносился хриплый голос Аллегровой: «…перед Богом страх уже не сдерживал, Ангел не ругал, но не поддерживал…».
Они, друзья с самого раннего детства, встретились на следующее утро у знакомого всем владивостокским подросткам места – ржавого сухогруза «Василий Прончищев», намертво вмерзшего в причал, где запах морской соли смешивался с вонью гниющей рыбы и мазута; Женя, нервно теребящий в руках только что купленную кассету с концертом Высоцкого, смотрел на Катю с немым укором, а Лера, наоборот, впитывала каждое ее слово, словно это были не рассказы о ночном кошмаре, а главы из запретного романа.