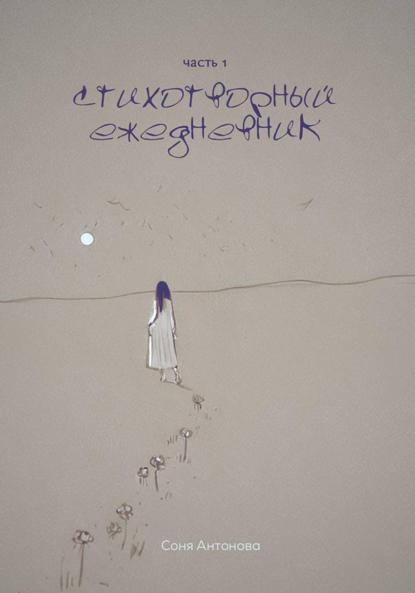Танец на крови

Владивосток на стыке эпох, когда одной страны уже не существовало, а другая еще не установилась. Именно здесь пересеклись две линии жизни. Одна — хрупкая, как ледяной кристалл, с болью старых травм и мечтой в сердце. Другая — тяжелая, как свинцовая пудра, устанавливающая свои порядки на руинах города.
Это была случайность или судьба, в мире, где пахло долларами и чужой кровью. Их связь — не про любовь, а про лед и пламя, долги и предательства. Про время, где за каждую возможность нужно платить, и счёт часто выставляется жизнью.