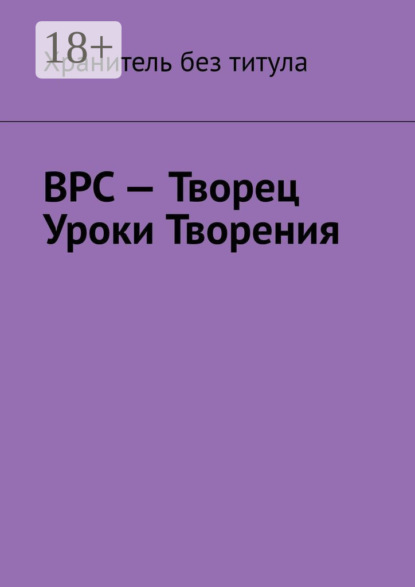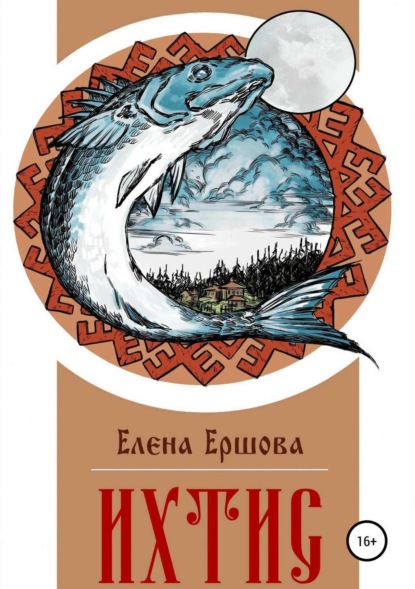Танец на крови

- -
- 100%
- +
Они, друзья с самого раннего детства, встретились на следующее утро у знакомого всем владивостокским подросткам места – ржавого сухогруза «Василий Прончищев», намертво вмерзшего в причал, где запах морской соли смешивался с вонью гниющей рыбы и мазута; Женя, нервно теребящий в руках только что купленную кассету с концертом Высоцкого, смотрел на Катю с немым укором, а Лера, наоборот, впитывала каждое ее слово, словно это были не рассказы о ночном кошмаре, а главы из запретного романа.
Катя, глотая горячий чай из алюминиевой кружки, купленной в соседнем ларьке «Воды-вины», с трудом подбирала слова, чтобы описать им тот мир, в который она окунулась; ее речь, прерывистая и нервная, была полна контрастов: «…а там ковры красные, толще, чем наш матрац, и люстры, как в кино… но в туалете… в туалете над унитазом надпись: «Здесь мочился Бурый», и все это воспринимают как норму…».
– И он тебя подвез? На «Тайоте»? – перебила Лера, ее глаза горели таким восторгом, что, казалось, могли растопить иней на поручнях ржавого сухогруза. – Боже, Кать, да это же сказка! Я бы убилась, чтобы на меня так же внимание обратили! Ты понимаешь, какие перспективы? Он же не просто так…
– Какие перспективы? – взорвался Женя, его лицо, обычно спокойное, исказилось от гнева и беспомощности. – Ты слышала себя? «Надпись в туалете», «Тайота»… Это же позор! Ты стала частью этой… этой помойки! Ты же видишь, что творят эти «центровые»? В прошлом месяце у школы №9 парня зарезали просто за то, что он не так посмотрел! А ты у них работаешь!
Между ними повисло тяжелое молчание, нарушаемое лишь криком чаек и доносящейся из радиоприемника таксиста песней «Ламбада» – ее сладковато-навязчивый ритм казался кощунственным на фоне их разговора.
– Мне платят в валюте, Женя, – тихо, но четко сказала Катя, глядя куда-то в сторону порта, где к небу тянулись стрелы кранов. – В долларах. За одну смену я получаю больше, чем Анна Петровна за месяц. Я куплю себе новые коньки. Настоящие.
– И что? – его голос дрогнул. – Ты думаешь, он тебе за работу платят? Ты для него вещь, Катя! Красивая игрушка! Он тебя… он тебя сожрет и не поперхнется.
Лера фыркнула, закутываясь в свой дешевый, но яркий платок, купленный у китайцев на рынке.
– Жень, хватит разводить сопли! Время сейчас такое – либо ты ешь, либо тебя едят. Катя выбрала правильно. Лучше быть «игрушкой» у Бурого, чем гнить в этой ржавой консервной банке, – она кивнула на сухогруз, – и мечтать о том, чтобы сбежать отсюда на какой-нибудь подножке товарняка.
Катя слушала их и понимала, что оба по-своему правы; где-то в глубине души она чувствовала ледяную правду слов Жени, но доллары, лежавшие в ее кармане, жгли кожу, напоминая о другой правде – правде пустых кастрюль на плите Анны Петровны и ее старых, проржавевших коньков. Она жила теперь в двух мирах одновременно, и мост между ними был построен из грязных денег и молчаливого одобрения человека, чье имя стало для нее и проклятием, и спасением. А из открытого окна проезжавшей мимо «девятки» неслось шипящее: «…Время менять имена…», словно насмешка над их спорами о будущем, которое для каждого рисовало такие разные картины.
Ее жизнь теперь была разорвана между двумя реальностями, словно расколотая надвое льдина в проливе Босфор Восточный: до восемнадцати часов – это был мир хрустящего под коньками утреннего льда в бухте Улисс, где солнце, поднимаясь над сопками, окрашивало воду в розовый цвет, а воздух был свеж и резок, как удар хлыста; после – мир «Тихоокеанского», пропитанный перегаром, пошлыми шутками и липким ощущением постоянной опасности.
Каждое утро, еще затемно, она пробиралась к замерзшему заливу; ее старые коньки оставляли на искрящейся поверхности сложные узоры, в которых она пыталась утопить страх и стыд предыдущей ночи. И именно здесь, в этом пограничном состоянии между сном и явью, между мечтой и реальностью, она впервые заметила его.
Сначала это была лишь черная точка вдали – темная иномарка, неподвижно стоявшая на смотровой площадке у маяка; затем она стала различать знакомый силуэт, и с каждым днем машина припарковывалась все ближе, пока однажды утром он не вышел из нее и не прислонился к капоту, куря и наблюдая за ее тренировкой через поднимающийся, в морозном воздухе, дым.
Бурый не приближался и не делал попыток заговорить; он просто был там, молчаливый и незыблемый, как сам ландшафт, и его присутствие, которое поначалу заставляло Катю нервно сбиваться с шага, постепенно стало частью утреннего ритуала. Однажды, выполняя сложную дорожку шагов, она не рассчитала усилие и грузно упала на лед, больно ударив колено; из груди сам собой вырвался короткий, сдавленный стон, и она, злая на себя, уже готовилась подняться, как вдруг над ней возникла тень.
Он стоял рядом, молча протягивая руку; его лицо в утренних лучах казалось менее суровым, почти юным, а в глазах, обычно холодных, читалось нечто похожее на понимание. Катя, оперевшись на его ладонь, почувствовала неожиданную теплоту и силу его руки, и странное спокойствие, которого не испытывала рядом с ним никогда.
– Упасть – не страшно, – произнес он тихо, его голос прозвучал непривычно глухо в утренней тишине, нарушаемой лишь криком чаек, – Страшно – не подняться.
В этот миг из открытого окна его машины донеслись слова песни «…способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленной Звездой по имени Солнце» – песни, которая тогда звучала из каждого утюга, но здесь, на льду, под холодным солнцем Владивостока, она обрела новый, пронзительный смысл. Они стояли так несколько секунд – она, все еще держась за его руку, а он, не отводя взгляда, не отпускал ее, – и лед между ними, буквальный и метафорический, впервые за все время дал трещину, обнажив нечто большее, чем деловые отношения инвестора и его подопечной.
– Спасибо, – выдохнула Катя, отпуская его ладонь и ощущая, как по щеке скатывается предательская слеза, которую она тут же смахнула.
Он лишь кивнул, развернулся и пошел к своей машине, оставив ее на льду одну, но с новым, непонятным чувством, что где-то там, в самой глубине этой ледяной глыбы, что звалась Бурым, возможно, есть крошечный источник тепла. А песня Виктора Цоя, уносимая ветром, пела о том, что звезда по имени Солнце будет гореть еще «пять миллиардов лет», и Кате вдруг захотелось верить, что ее хрупкий мир, балансирующий на острие конька, продержится хотя бы до завтра.
Время стремительно шло, сменяя ветра, на яркое солнце. Они сидели в их «секретном месте», две девчонки, несломленных тяжестью улиц – на старом, проржавевшем причале бывшей базы тралового флота, откуда открывался вид на бескрайний, свинцовый от хмурого неба, Амурский залив, и где пахло не морем, а мазутом, водорослями и тоской покинутых кораблей; здесь, под аккомпанемент криков чаек и приглушенного гула пароходов из порта, они всегда делились самым сокровенным, и сегодня Катя, свернувшись калачиком на холодном металле, наконец выплеснула то, что копилось в ней все эти недели.
– Он приходит почти каждое утро, – прошептала она, глядя на горизонт, где догорал короткий зимний день. – Стоит и смотрит. Молча. И тот день… я тогда упала, а он… подошел и поднял меня.
Лера, закутанная в кримпленовое пальто с чужого плеча, слушала, затаив дыхание, ее глаза, обычно такие насмешливые, стали серьезными и проницательными; где-то вдали, из открытой форточки, неслись слова песни «…если есть те, кто приходят к тебе, то найдутся и те, кто прийдет за тобой…» – ее мрачный, безысходный напев странным образом соответствовал настроению Кати.
– Говорит, что я для него «инвестиция», – продолжала Катя, сжимая в руках ветку выброшенного кем-то сухого бамбука, – а сам смотрит так… будто я не конькобежец, а какая-то загадка, которую он не может разгадать. И я… я иногда ловлю себя на том, что жду этих утренних встреч. Это же безумие, да?
Она замолчала, смущенная собственной откровенностью, и в тишине, нарушаемой лишь плеском волн о ржавые сваи, ее признание повисло между ними, хрупкое и оголенное.
Лера не засмеялась и не стала язвить; вместо этого она повернулась к Кате, и ее лицо стало не по-юношески взрослым и уставшим от жизни, которую она так жаждала, но не знала до конца.
– Кать, дурочка, – выдохнула она, и в ее голосе послышалась лишь горькая, преждевременная мудрость «девчонки с района», видевшей все. – Да ты ему не как спортсменка нужна! Инвестиция… Ну да, конечно. – Она фыркнула, доставая из кармана пачку «Явы» и ловко прикуривая. – Ты думаешь, у такого пацана, как Бурый, проблемы с баблом? У него проблем с этим нет. Ему скучно, Катя. Он в своем мире всех купил и всех победил, а тут ты – льдинка, которую не купишь, ее можно только… растопить.
Катя смотрела на нее, не в силах вымолвить ни слова; слова подруги били, как удары молота по хрупкому льду ее наивных представлений, раскалывая их вдребезги.
– Он тебя видит, – продолжала Лера, выпуская струйку дыма в морозный воздух. – Ни официантку, ни сироту, а тебя саму. Твою упрямую рожу, когда ты на льду. Твой огонь. Ему это в диковинку. И да, – она посмотрела Кате прямо в глаза, – нужна ты ему не как инвестиция. Как человек. И это, сестренка, в тысячу раз опаснее.
И в этот миг из порта донесся протяжный, тоскливый гудок отходящего судна, словно подтверждая ее слова; Катя сидела, обняв колени, и чувствовала, как внутри нее тает последний оплот сопротивления, уступая место чему-то новому, тревожному и сладкому – пониманию, что игра, в которую она ввязалась, оказалась куда сложнее и опаснее, чем она могла предположить. А в голове у нее, словно эхо, звучали слова Леры: «Нужна ты ему», – и от этой мысли по спине бежали мурашки, смешивая страх с запретным, щемящим любопытством.
ГЛАВА 3
Недели, превратившиеся в месяцы, сгладили острые углы страха, отполировав Катю до состояния твердого, отточенного инструмента; ее больше не сбивали с ног ни липкие лужи на полу, ни похабные шутки подвыпивших клиентов, чьи лица теперь сливались в одно пятнистое полотно из жадных глаз и развязных улыбок. Она научилась парировать наезды не грубостью, а ледяной, отстраненной вежливостью, которая обжигала сильнее любой брани, и ее фигура в нелепом форменном платье, скользящая между столиками с подносом, стала не символом уязвимости, а молчаливым вызовом всему этому миру напускной крутизны.
Какой-то усатый бизнесмен с перстнем на толстом пальце, явно из тех, кто контролировал один из рыбных терминалов, попытался ухватить ее за локоть, сипя что-то о «посиделках после смены», но Катя, не меняясь в лице, встретила его взгляд – прямо, открыто, без тени страха – и тихо, но четко сказала: «Уважаемый, здесь либо едят, либо ищут приключений. Вам куда?» – и в ее голосе прозвучала такая сталь, что мужчина опешил, его налитые кровью глаза расширились от изумления, а через секунду в них мелькнул даже не гнев, а некое подобие уважения; он что-то буркнул и отвернулся, а Катя, ровно держа спину, пошла дальше, чувствуя, как по всему телу разливается странная, победная дрожь.
И этот момент не ускользнул от двух пар глаз. Люда, стоявшая у барной стойки, медленно, почти незаметно кивнула – не Кате, а как бы самой себе, и в ее холодном, уставшем взгляде впервые появилась тень чего-то, отдаленно напоминающего одобрение: «Наконец-то щенок научился показывать зубы».
Но самые важные перемены происходили в глазах Бурого; если раньше его взгляд, скользя по ней, выражал лишь холодный интерес коллекционера, то теперь в нем появилась тень уважения, смешанного с нескрываемым любопытством. Он все так же наблюдал за ней со своего второго этажа, но теперь это было не просто созерцание – он изучал ее, как изучают сложную, но многообещающую шахматную партию, и Катя, чувствуя на себе тяжесть этого внимания, ловила себя на том, что ее движения за столиками становятся еще более отточенными, а осанка – еще более прямой, будто она не просто работала, а демонстрировала некий перформанс специально для него.
Как-то вечером, когда она ловко увернулась от пьяного гостя, чуть не опрокинувшего на нее бокал с вином, их взгляды встретились на долю секунды, и Кате показалось, что в уголке губ Бурого дрогнула едва заметная улыбка – не насмешливая, а скорее одобрительная. И в этот миг она осознала, что ее выживание в «Тихоокеанском» перестало быть просто необходимостью – оно стало ее личной победой, тем самым первым, самым трудным прыжком, после которого лед уже не кажется таким опасным, а враги – такими непобедимыми.
Люда, наблюдая за ней со стороны со все возрастающим уважением, стала относиться к Кате иначе – не как к неумелой девочке, а как к младшему, но перспективному коллеге, однажды даже одолжив ей свою запасную помаду.
– Смотри, чтоб не стерлась, у нас тут не балет, – и в этой простой фразе сквозило некое профессиональное признание. Она больше не делала унизительных замечаний, а лишь изредка, проходя мимо, кивала ей одобрительно или шептала: – Справа у окна свои, будь с ними повежливее, но без заискиваний.
Катя, кивая, чувствовала, как внутри закипает странная гордость от того, что она, вчерашняя простушка, теперь разбирается в тонкостях местной иерархии.
Возвращение домой каждый раз ощущалось как переход между двумя враждующими государствами – из душного, насыщенного агрессией и дорогими ароматами мира «Тихоокеанского» в затхлую, пропахшую едой и старостью атмосферу их квартиры, где даже воздух казался спертым от невысказанных обид и тягостного молчания.
Анна Петровна встречала ее не словами, а спиной – она сидела над заварочным чайником, и ее плечи, обычно такие прямые и уверенные, теперь были сгорблены под тяжестью немого осуждения и страха; свет на кухне горел тускло, экономная лампочка в сорок ватт отбрасывала желтоватые тени на стены, украшенные выцветшими вырезками из газет, где красовались юные фигуристки, в том числе и она сама – молодая, с сияющими глазами, полными веры в светлое будущее, которое так и не наступило.
– Пришла, – произнесла она наконец, не оборачиваясь, и это короткое слово было гуще и тяжелее любой отповеди; в нем слышалось и облегчение, что Катя жива-здорова, и горечь от того, чем ей приходится зарабатывать на жизнь. – Ужин в холодильнике. Картошка с грибами.
Катя, чувствуя, как на нее оседает невидимая пыль вины, молча ставила на стол пачку долларов, завернутых в бумажную салфетку, – этот жест стал их новым, мучительным ритуалом, заменой обычным «здравствуй» и «как прошел день». Анна Петровна брезгливо, кончиками пальцев, отодвигала деньги в сторону, словно они были испачканы не только отпечатками чужих рук, но и чем-то гораздо более омерзительным.
– Приходила бумага из федерации, – голос тренерши прозвучал ровно, но Катя уловила в нем слабую, едва заметную дрожь надежды, которую та пыталась подавить. – В конце месяца отборочные на Кубок России. В Красноярске. Проезд и проживание… – она запнулась, и ее взгляд на мгновение метнулся к долларам на столе, – федерация обещает покрыть частично.
В этот момент из соседней квартиры, где вечно пили и скандалили, донеслись аккорды «Кончится лето» Виктора Цоя – песни о быстротечности времени и упущенных возможностях, которая сейчас звучала как горький саундтрек к их жизни.
Катя, стоя у порога кухни, чувствовала, как внутри нее разрываются на части две реальности: одна – с ледяным чистым катком в Красноярске, с возможностью доказать всем и самой себе, что она чего-то стоит; другая – с липкими столами «Тихоокеанского», тяжелым взглядом Бурого и этими долларами, которые могли либо помочь ей, либо навсегда привязать к миру, где честь и мечта были разменной монетой.
– Я поеду, – тихо, но твердо сказала она, глядя в затылок Анне Петровне. – Я должна поехать.
Анна Петровна медленно повернулась, и в ее глазах, усталых и пронзительных, Катя увидела не гнев, а бездонную, неподдельную грусть.
– Я знаю, что должна, – прошептала Анна Петровна. – Но боюсь, птица моя, какой ценой нам всем за это придется заплатить. Эти люди… они ничего не дают просто так. Ни-ког-да.
И в тишине кухни, под звуки уходящей гитары Цоя, эти слова повисли между ними тяжелым пророчеством, от которого застывала кровь в жилах.
Сознание Кати разрывалось между мирами, как корабль между рифами: ее физическое тело механически выполняло отработанные движения – несло подносы, убирало пустые бутылки, заставляло губы растягиваться в вежливой улыбке для очередного пьяного гостя, в то время как ее мысли были далеко, на воображаемом льду красноярского дворца спорта, где под рев трибун она выписывала идеальную дорожку шагов, завершающуюся тройным сальховом, таким легким и невесомым, будто ее коньки скользили не по замерзшей воде, а по самой поверхности ее мечты.
Эта отстраненность не осталась незамеченной. В тот вечер Люда, проходя мимо, остановилась и, скрестив руки на груди, бросила сухое замечание:
– Бурый передал, чтобы меньше витала в облаках. Говорит, клиенты жаловались, что ты вчера борщ чуть ли не в соседний стол вылила, когда считала воображаемые баллы у окна.
Катя вздрогнула, вернувшись в реальность, и почувствовала, как по ее щекам разливается горячий румянец стыда. Но Люда, к ее удивлению, не стала отчитывать дальше. Вместо этого она подошла ближе, понизив голос до шепота, который едва был слышен под гитарное соло:
– Он еще сказал… что эта твоя отрешенность ему интересна. Говорит, большинство девок здесь мечтают о норковой шубе или золотом браслете. А ты… ты, выходит, о каком-то льде, до которого ему, видимо, дела нет. Так он и сказал: «Интересно, на что она променяет свои фантазии»».
И после этих слов Люда отошла, оставив Катю в состоянии странного, двойственного смятения. С одной стороны, ее возмутила эта фраза – «променяет свои фантазии», будто ее мечта была какой-то дешевой безделушкой. Но с другой… с другой стороны, где-то глубоко внутри, в том самом потаенном уголке души, который она боялась в себе признать, шевельнулось щемящее, опасное чувство – осознание того, что этот жестокий, циничный человек, чье имя наводило страх на полгорода, видел в ней не только тело или рабочую силу. Он видел самую суть, ее внутренний конфликт, и это неосознанное, пристальное внимание было одновременно лестным и пугающим.
В этот вечер, убирая стол в вип-зоне после его ухода, она нашла на стуле забытый номер журнала «Спорт в СССР» с закладкой на странице, где рассказывалось о предстоящих соревнованиях в Красноярске. Это не могло быть случайностью. И Катя, держа в руках потрепанные страницы, впервые с ужасом и любопытством подумала, что, возможно, Андрей Буров интересуется не только ее телом или упрямством, но и самой ее мечтой, и это делало его присутствие в жизни в тысячу раз опаснее.
Это случилось в один из тех редких вечеров, когда «Тихоокеанский» был почти пуст – лишь пара столиков в углу, где тихо беседовали какие-то серьезные мужчины в дорогих костюмах, да за барной стойкой Люда, с усталым видом полировавшая бокалы; из динамиков вместо привычного шансона лилась инструментальная композиция «Желтые тюльпаны», но в голове у Кати, протиравшей столы у окна, звучала совсем другая музыка – навязчивый мотив Рауля ди Бласио, под который она готовила новую программу, мысленно повторяя каждое движение, каждое вращение, пока пальцы ее автоматически водили тряпкой по липкой скатерти.
Люда, поймав ее взгляд, кивнула в сторону вип-зоны, и Катя, сжавшись внутри от неожиданности, медленно поднялась по лестнице, чувствуя, как сердце начинает отчаянно стучать, словно пытаясь вырваться из грудной клетки.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.