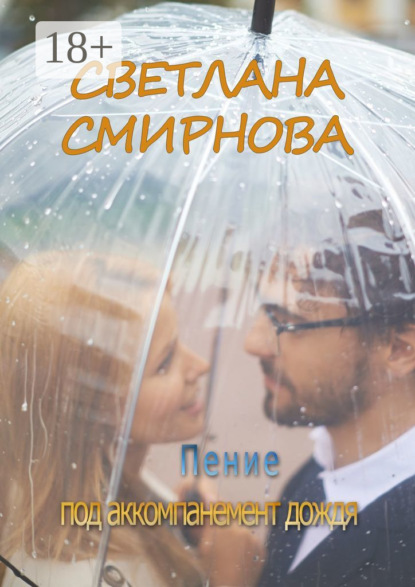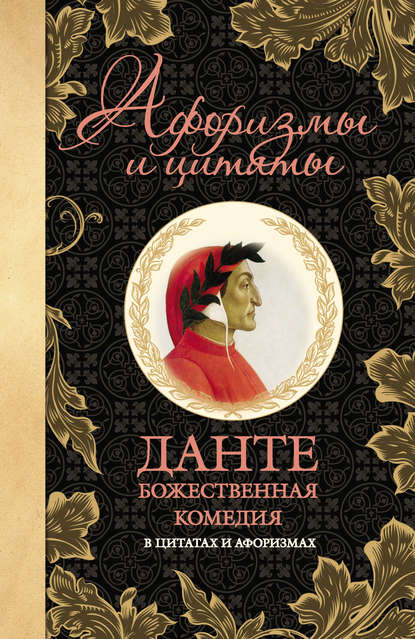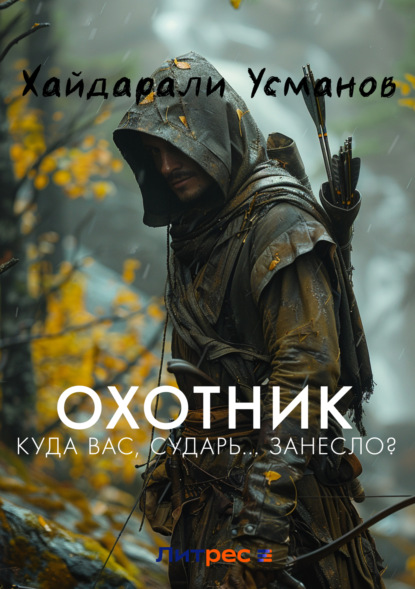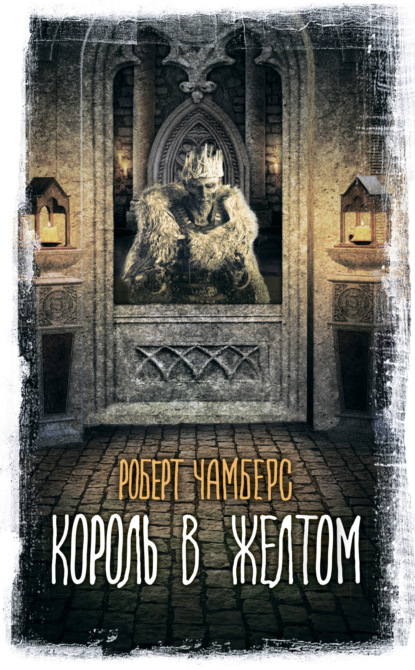- -
- 100%
- +
Глухой телефон
На окраине села, у почты, как сейчас помню, стоял обшарпанный телефон-автомат. Из которого можно было позвонить в город, домой, если у тебя была мелочь.
Этот телефон часто был неисправен, работал на одном честном слове. Но всё равно, когда я начинала сильно скучать по дому, то тоска гнала меня через бесконечное поле, мимо ромашек и колокольчиков, к этому телефону.
Набирая номер, я слышала в трубке зловещее шипение, щёлканье… словно по проводам шла передача тоски маленькой девочки по маме – туда, далеко, домой, в город… И я надеялась, что меня услышат, или почувствуют, как мне одиноко и плохо.
Но в моём доме телефона тогда не было, значит не было и номера, по которому я могла бы дозвониться. В то время мало у кого в квартирах стояли телефоны. Но я не знала об этом и с упорством набирала какие-то цифры и крутила диск… А почтальонка, глядя на меня в окно, улыбалась: «…Ох, уж, эти дети! Живут в санатории, что им ещё надо?»
Село Большеустьикинское… Само село я собственно и не помню. Мне было десять лет, когда родители меня отправили в ревматический санаторий для детей, который был расположен не то в самом селе, не то рядом с селом. Скорее всего, рядом. Потому что санаторий стоял в сосновом бору. Я до сих пор помню его сладкий воздух.
В селе я запомнила книжный магазинчик, одноэтажный, кирпичный, побелённый известью. И молочную ферму. На ферме нас поили парным молоком. Но я его пить не смогла. Сделала два глотка и отказалась. А другие дети пили.
Но главное, что мне запомнилось, – это дорога в санаторий, в село с длинным и непонятным названием – Большеустьикинское.
На вокзале в Уфе нас провожали родители. Помню, как мать суетилась, нервничала, беспокоилась за меня. Наложила полный чемодан копчёной колбасы и другой еды, которую я не запомнила.
Эту колбасу мы ели потом всем отрядом целый месяц. Но одной девочке, слишком хорошенькой, я из зависти не давала, хотя она очень просила. Вот такая была вредина! Но это был единичный случай в моей жизни, потому я его и запомнила. Больше я никогда никому не завидовала.
Поезд отошёл от станции под вечер. Я проснулась ночью от грохота его металлических колёс. Выглянула в окно и увидела совсем близко, прямо за окном, на расстоянии вытянутой руки, высокую скалистую гору красноватого цвета со светлыми прожилками. Гора была как стена, я не видела, где она кончается, не видела неба – она всё закрывала собой. Поезд шёл словно сквозь туннель. Это видение меня захватило. Я никогда не видела таких больших отвесных гор.
Разбудили нас на ранней зорьке: едва-едва рассвело… Краешек бледного заспанного солнца нехотя выглядывал из-за облака.
На пустой станции было очень тихо. Только где-то в кустах изредка лениво чирикали птички. Они тоже только-только начинали просыпаться… Кругом простиралась степь.
Я впервые присутствовала при рождении дня.
Мы стояли, не выспавшиеся, в мятой одежде, сбившись в стайку, как цыплята. Было зябко. Поезд тоже стоял. Пахло мазутом. По железнодорожным путям бродили рабочие, они, переговариваясь, осматривали, простукивали рельсы и колёса поезда…
В стороне стояли два автобуса, которые должны были доставить нас в санаторий.
По дороге нам встретилась речка, неширокая, с тёмной коричневой водой. Называлась она Ик.
А неподалёку протекала ещё одна река, которую называли Ай. Речки – близнецы. Эти названия, состоящие из одного слога, мне показались интересными.
И я поняла, почему село носит такое длинное название, которое так трудно произносится – оно было расположено в устье реки Ик и потому называлось Большеустьикинское…
Со мной в одной группе ехали две девочки с нашей улицы, двоюродные сёстры Оля и Наташа. Я думала, что мы будем дружить. Но они всегда держались вдвоём, а меня задирали.
Я аккуратно и часто писала письма домой…
…А на окраине села, у почты, у боковой её стены, стоял обшарпанный телефон-автомат какого-то непонятного, вроде бы серого, цвета, с облупившейся краской. Сколько помню, это место всегда продувалось ветром… Ветер ерошил и путал волосы, задирал юбку, хлестал по щекам…
Этот телефон часто был неисправен… Связь с городом была ненадёжна…
Но всё равно, когда я начинала сильно скучать по дому, то тоска гнала меня через бесконечное поле, мимо ромашек и колокольчиков, к этому телефону…
От ледохода до ледохода…
Дом
Никогда не думала, что переживу свой дом. Мне казалось, что дома вечны.
Но вот он стоит с забитыми окнами: то ли коричневым картоном, то ли фанерой. Из окна такси толком не разглядела. Но сердце кольнуло! Стоит как слепой. Подготовлен к сносу. И мне больно на него смотреть. Скоро от него останется груда щебня.
А в этих стенах прошли мои детство и юность – волшебное время! Там я училась ходить, произнесла первое слово, выучила буквы и читала свои первые книжки. Смотрела в окна на звёзды… В этот дом приходил мой будущий муж. Когда я после завтрака выходила в палисадник, он уже сидел там, на скамеечке, – ждал меня. В этот дом мы принесли свою дочку из роддома, и первые месяцы её жизни тоже прошли в этих стенах.
Я думала – город вечен! Густые кроны старых лип, что шумели в Софьюшкиной аллейке за воротами нашего двора; зелёная тенистая улица Цурюпы, по которой мы ходили в школу, на которой жили многие ребята из нашей школы; кабельный завод, труба которого жутковато гудела на всю округу во время учебных военных тревог в пятидесятые годы в моём дошкольном детстве; наши любимые парки: Матросова, Луначарского…
Но ничего не осталось. Всё смело время.
Ещё в раннем детстве, когда мы с бабушкой ходили за керосином в лавку, расположенную у холма, на котором стояла полуразрушенная Троицкая церковь, я, собирая ромашки и васильки, любила смотреть на эту церковь, и уже тогда поняла, что всё в мире хрупко, ненадёжно – всё может разбиться как фарфоровая чайная чашка в одну секунду, стоит только неосторожно двинуть рукой.
В памяти хранятся уютные улочки прежнего старого города, сирень во дворах, яблони… Город в те годы был небольшим. Главным событием весны был ледоход. Он всех волновал. Его ждали. А когда по Белой шёл лёд, все шли на мост – смотреть как кружатся и плывут огромные льдины, как очищается к лету река. Город жил от ледохода до ледохода…
А после начинались весна и лето.
***
Весной мы задыхались от густого запаха сирени, летом от запаха цветущей липы. Жизнь торжествовала! Деревья цвели буйно и неистово. Вдоль ограды аллейки росла жёлтая акация. Её жёлтые нежные цветочки проглядывали сквозь листики. Они были сладкие на вкус. И мы их жевали… А когда вызревали стручки, делали из них свистульки. Дети тесно связаны с природой.
Мы целые дни проводили во дворе, каждый день был светел и бесконечен. Мы никогда не скучали.
Рядом с нашим двором, за невысоким деревянным забором, стояла мечеть с узким высоким минаретом. По вечерам над всей окрестностью плыл голос муэдзина, он на арабском языке пел аяты из Корана.
Арабский язык нам был не знаком, но мелодия этих молитв проникала в сердце. И мы – русские, татары, башкиры, чуваши, евреи – затаив дыхание, слушали это пение. Мы не придавали никакого значения национальностям, мы были единым народом, родом человеческим.
Но время движется, оно не может стоять на месте. И всё меняет.
Многие улицы уже не узнать. Старые уютные домики, построенные ещё в девятнадцатом веке, снесли. На их месте стоят башни из стекла и бетона. Они холодные и чужие. В них ещё надо вдохнуть жизнь.
Исчез парк имени Александра Матросова, в котором мы зимой катались на лыжах, а летом бегали по его тенистым аллеям с вековыми деревьями, с пёстрыми клумбами, и, спасаясь от жары, пили воду из краников водопроводных труб, которые были протянуты вдоль летних павильонов с Читальней, с залом, в котором собирались шахматисты.
Нет уже деревянного красавца летнего кинотеатра «Идель», в котором мы смотрели популярный в то время индийский фильм с Раджем Капуром «Господин 420», и все мальчишки нашего двора распевали песни из этого фильма: «…В русской шапке большой, но с индийскою душой…»
Изменился парк имени Луначарского, который все называли «Лунный». Изменили форму озера, спилили толстые старые ивы, которые росли по его берегам. Снесли старый Летний театр. Да и площадь парка урезали наполовину.
Этот парк был связан со школой. В этом парке проводились школьные линейки. Возвращаясь домой после уроков, мы часто шли через этот парк, любуясь осенней раскраской кленовых листьев, шуршащих под ногами… У него было три входа: главный с улицы Пушкина, и ещё два – с Ново-Мостовой и с улицы Фрунзе, мимо корпуса Кабельного завода.
Я не могу забыть старые тополя по улице Матросова, всё мне помнится как светло они зеленели в мае! Вся улица тонула в нежной зелёной дымке.
Посмотреть на первые зелёные листики я шла туда. У тополя они особенно светлые, блестящие, клейкие, мне нравился их горьковатый запах.
Мы часто там гуляли с одноклассницами, делились секретами, мечтали…
Город – это тоже наш дом. Но главный повелитель – время. Ничто не может стоять на одном месте, всё постоянно течёт и меняется…
И сейчас, когда я еду по Салаватке с его хитрыми развязками и переплетениями дорог, я вспоминаю тихую задумчивую улицу Воровского, которая когда-то стояла на этом месте, неспешную жизнь горожан. И деревья… Теперь я знаю, о чём они грустили. Они грустили о времени, которое всё изменит.
Мороженое из детства
В 50-60-е годы мы жили спокойно. Жили с уверенностью в завтрашнем дне, с радостью в сердце, что закончилась война – наши отцы воевали. Люди были доброжелательны, отзывчивы.
Но время было всё же послевоенное. Часто проводились военно-воздушные тревоги. Жутко завывала труба на кабельном заводе, родители загоняли нас с улицы домой и завешивали окна плотным байковым одеялом. Электрический свет выключали. В городе воцарялась такая тишина, что даже был слышен стук поезда, идущего по железнодорожному мосту через Белую.
Зазевавшихся прохожих, не успевших дойти до своего дома, санитары укладывали на носилки, бинтовали и куда-то уносили. Таковы были условия учений. В мире было ещё неспокойно.
А мои мать и бабушка при каждом обострении мировой обстановки запасались мылом и спичками. Я помню как большие куски коричневого хозяйственного мыла сушились на нашей печке.
Когда привозили в магазин муку, выстраивалась огромная очередь. Давали по 3 кг на человека. Мы были прикреплены к небольшому кирпичному магазинчику, который стоял рядом со школой №14. Мать занимала очередь, а когда её очередь приближалась, бежала домой за нами. Нас укутывали, обвязывали шалями, садили на санки и везли к магазину. Таким образом можно было получить муки побольше: на себя и троих детей. А наша семья состояла из шести человек.
Через несколько лет этот небольшой магазинчик закрыли, и мы стали ходить в магазин на углу улиц Ново-Мостовой и Фрунзе, ныне Заки Валиди. На правой, чётной стороне улицы, в подвале одноэтажного деревянного дома был Хлебный магазин. Каких только булочек там не было! Были сдобные «Калорийные» с орехами и изюмом, обсыпанные сахарной пудрой по 9 копеек, были большие плетёнки, простые и сдобные, тоже с орехами и изюмом, с сахарной пудрой по 22 копейки. Мать такой плетёный батон почему-то называла «хала». Были городские булки с хрустящим швом сверху посередине, были маленькие плетёные булочки и круглый белый хлеб по 26 копеек, который мы обычно покупали.
Когда отправляли кого-нибудь из нас, детей, за хлебом, то давали большую хозяйственную сумку, и мы покупали два пшеничных серых кирпичика по 16 копеек и один белый круглый хлеб по 26 копеек. Семья у нас была большая.
А на противоположной стороне улицы, на самом углу, стоял продуктовый магазин, в котором можно было купить сахар, масло, колбасу… При этом магазине имелся подвал. Вначале в этом подвале располагался овощной магазин, в котором мы покупали самое дешёвое лакомство – финики по 70 копеек за килограмм. А позже – молочный магазин.
И здесь же, неподалёку, на Ново-Мостовой, стояла цистерна с разливным молоком.
Покупать хлеб и молоко было обязанностью детей.
Но по улице Фрунзе шёл грузовой поток машин, машины спускались на ул. Воровского и, сворачивая на мост через реку Белую, выезжали из города.
Светофоров не было. Бывали случаи, когда дети попадали под машину.
В те годы в магазинах города продавались натуральные продукты. Искусственных продуктов не было – ещё не додумались до этого. Да и необходимости, судя по всему, в этом не было.
Помню вкус и аромат сливочного масла на свежей плетёной булочке за пять копеек!
Кондитерские изделия в те годы привозили из Москвы, наша уфимская кондитерская фабрика «Конди» ещё не была построена. Московские печенье, конфеты, шоколад были очень вкусными, но дорогими.
Отец с зарплаты обычно покупал нам, троим детям, одну большую шоколадку на всех. И это был праздник! Помню бирюзовую обёртку и золотую белочку, изображённую на ней, с орехом в лапках, шуршащую серебряную фольгу и тонкий дразнящий аромат шоколада…
Позже, когда построили местную кондитерскую фабрику, она не смогла производить продукцию такого же качества, как московская. И мы ездили в Москву за любимым печеньем и шоколадом.
Когда я жила в двадцатом веке, мне хотелось жить в девятнадцатом. Мне казалось, что там была тихая размеренная жизнь, без суеты. Экология лучше, продукты чище, без нитратов. А сейчас, в двадцать первом, хочется назад, в двадцатый.
Да, надо было читать научную фантастику! А я её почему-то избегала. Проглотила в девять лет за один день всего Беляева, читала Герберта Уэллса, и ещё одного популярного фантаста из Японии, имя, к сожалению, забыла. И всё!
Кто бы знал, что двадцать первый век пойдёт по этому пути?
Появились компьютеры, интернет, сотовые телефоны, роботы, искусственный интеллект, и они изменили ритм жизни, образ мышления.
В двадцатом веке обычный городской телефон был большой редкостью, стоял не в каждой квартире. И поэтому люди чаще общались. Но сколько же они времени тратили на то, чтобы куда-то съездить, что-то выяснить?
Наше детство проходило на улице и в библиотеках. Мы много читали. Книга нам открывала мир. И ещё мы любили кино!
В каждой семье были фильмоскопы и диафильмы, которые хранились в металлических и пластмассовых баночках. Диафильмы нам обычно показывал отец, проецируя изображение на вывешенную белую простыню, заменявшую экран. Ещё у нас дома были виниловые пластинки с детскими сказками и стихами, которые нам прислали родственники из Апрелевки, которые работали на заводе грампластинок. Телевизоры стали появляться в наших домах лишь в начале 60-х годов. И были не в каждой семье. По вечерам люди ходили друг к другу «на телевизор». В комнате не хватало места, и потому сидели даже на полу перед самым экраном.
Мы выросли без весёлых забавных мультиков, которые с таким увлечением смотрели наши дети. Поэтому кинотеатры в нашей детской жизни играли такую большую роль. Мы все очень любили кино и не представляли без него своей жизни.
Каждое воскресение, в тот единственный день недели, свободный от занятий в школе, мы вставали спозаранку, чтобы успеть на первый сеанс, на который продавали дешёвые детские билеты. Родители выдавали нам по рублю дохрущёвскими деньгами. И мы, собравшись стайкой, отправлялись в поход по кинотеатрам. Обычно шли на тот фильм, на который удавалось купить билеты. Нам было всё равно, что смотреть, лишь бы побывать в кино.
Народу в кинотеатрах в то время было очень много. Выстояв длинную очередь и едва дотянувшись до окошечка кассы, мы важным голосом произносили: «Один, детский!» – и радостно сжимая в кулачке клочок синей бумаги, спешили шумной ватагой в зал. Чаще всего мы ходили в кинотеатр «Октябрь». Был в то время такой кинотеатр. Он стоял на месте нынешней гостиницы «Агидель». Это был большой хороший кинотеатр с просторным фойе с колоннами, на которых были развешены большие портреты популярных киноактёров. Мы их с благоговением разглядывали, ожидая звонка и хрустя вафельным стаканчиком мороженого, которое было обязательным приложением к просмотру кинофильма.
Когда начали строить гостиницу «Агидель», кинотеатр «Октябрь» перевели в другое помещение по-соседству, похожее на кирпичный сарай. Вход был с правой стороны, за аркой, по улице Ленина. А затем и вовсе закрыли.
В этом кинотеатре мы посмотрели много хороших фильмов. Но почему-то мы смотрели в основном фильмы для взрослых. Несколько раз смотрели цветной фильм «Над Тиссой» про пограничников, «Партизанская искра», «В горах», «Звезда» про Великую Отечественную войну.
Помню, как мы с подругой шли мимо сквера им. Сталина, в котором ещё возвышался посередине клумбы его памятник в полный рост. И я увидела на противоположной стороне улицы Ленина, на фасаде кинотеатра «Октябрь» огромный плакат с рекламой фильма «Война и мир» в американской постановке с Одри Хепберн. На плакате была изображена прекрасная молодая девушка в белом платье с огромными выразительными глазами. Афиша поразила наше воображение. Нам захотелось как можно быстрее посмотреть этот фильм, но на рекламе огромными буквами стояло: «Анонс!».
Летом часто ходили в парк имени Матросова в кинотеатр «Идель». В те годы были очень популярны индийские фильмы «Господин 420», «Бродяга» с Раджем Капуром в главной роли.
Мальчишки из нашего двора распевали знаменитую песенку Раджа Капура:
«Я одет как картинка,Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.