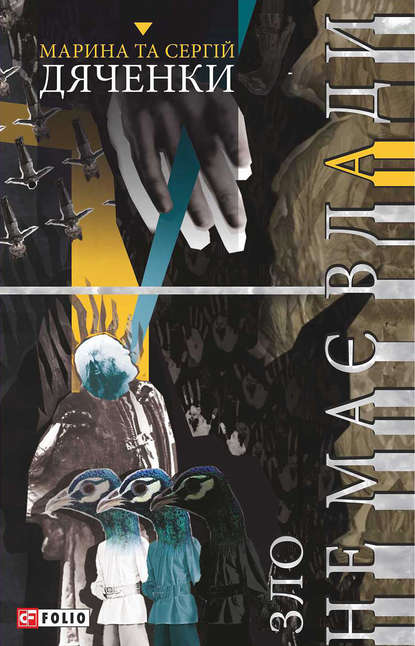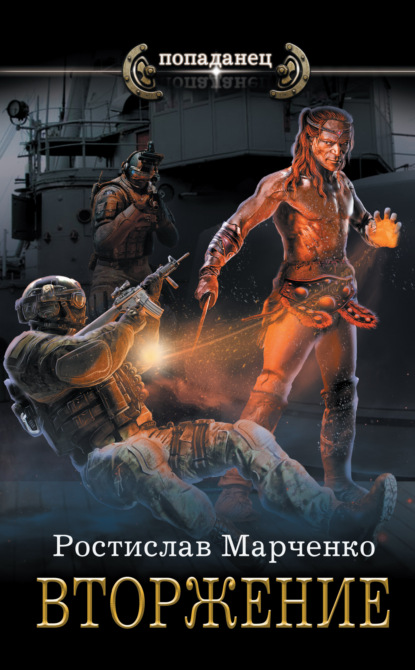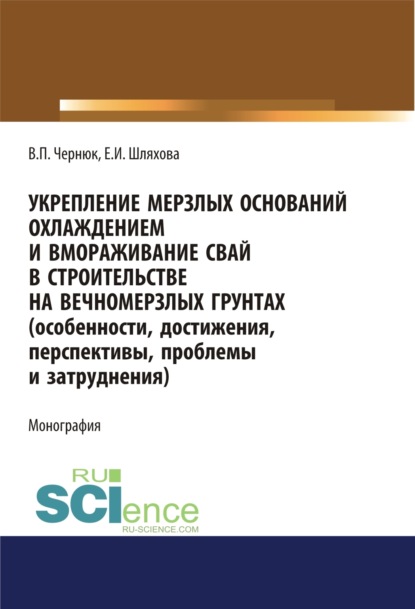Репликант с Альфа Центавра
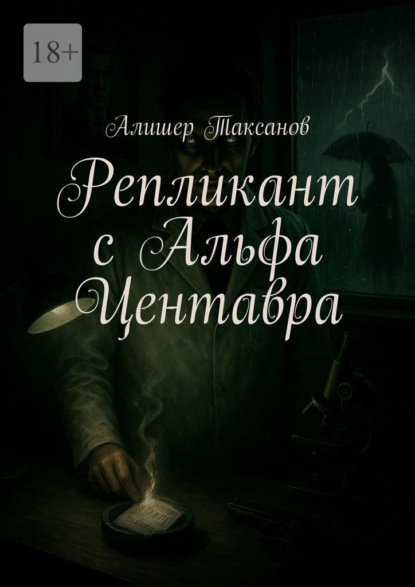
- -
- 100%
- +
Взгляд её упал на Пипкина. Тот без всякого трепета развёл руки:
– А у меня нет билета.
– «Заяц»? – со злостью процедила женщина. – Маленький, а уже преступник? С детства приучают нарушать закон?.. Вот растёт поколение иждивенцев и мерзавцев! Вот так растут Бонни-и-Клайды!
«Бонни и Клайд» – знаменитая пара американских грабителей и беглецов, о которых в кино говорили как о романтизированных бандитах: стрёмные имена бродяг, которые грабили банки и убивали людей – для кондукторши это был страшный символ безнравственности. Ребята такого не знали толком и лишь молча моргнули.
Фарход, хоть и испуганный, решил защитить друга:
– Ездить без билета – это не преступление, а всего лишь правонарушение, – стал он блещущим тоном читать, заученным из где-то услышанной лекции, и в словах слышалась попытка казаться старше.
Кондукторша зарычала, как будто ей ткнули в личное:
– Не умничай! Без билета сегодня, а завтра убьёт человека, послезавтра изменит родине! Всё начинается с маленького! – с этим аргументом спорить было бесполезно. – Давай, вон из вагона! Марш!
И она схватила Гаврилу за шиворот и стала тянуть на себя, пытаясь вытащить его со скамьи. Пипкин упирался ногами и руками, держа спину ровно, грозясь вырваться, ведь ему совсем не понравился такой способ покидания места. Он тянулся к окну, а значит, должен был перелезть через Фархода, который сидел рядом. В этот момент коробка с прибором, покоявшаяся на коленях у «головастика», соскользнула на пол. Изнутри что-то щелкнуло, завибрировало и зазудело от удара, издавая металлический, слегка визгливый гул.
– Эй, мадам, поосторожнее! – заорал Фарход. – Вы мне прибор сломаете!
Неизвестно, что больше разозлило кондукторшу: то, что её назвали иностранным словом «мадам», или указали на неуклюжесть её действий, или то, что какой-то пацан решает, как обращаться с её руками. Вдруг она набросилась на «головастика»:
– А ты за провоз багажа оплатил?
– Какого багажа? – опешил Исмаилов, поднимая с пола картонку и прислушиваясь к ожившему внутри прибору.
Внутри что-то тикало, жужжало и тихо стрекотало, будто маленькие шестерёнки пытались подстроиться к неожиданной встряске, и периодически слышались едва заметные всплески электрических разрядов.
– Вот этого! – женщина с грохотом хлопнула ладонью по коробке. Опять что-то щелкнуло, но теперь сильнее, а гул стал почти вибрацией пола, словно прибор протестовал против неосторожного обращения.
– Эй, осторожнее! – заорал Фарход. – Чего руки распускаете, мадам?!
Пассажиры в страхе оборачивались на крики: кто-то подтягивал детей к себе, кто-то сжимал сумку, стоящие перешли на носочки, пытаясь отодвинуться, а кто-то буквально прижимался к стенкам салона, опасаясь, что сейчас посыплется что-то из приборной коробки.
– Какая тебе мадам, паршивец! – взревела кондукторша, однако на лице у неё промелькнуло облегчение: вот появился повод для скандала, можно было разрядить внутреннее раздражение. – Еще не подрос, а уже оскорбляет старших! Что у тебя там – бомба?!
Её крик насторожил пассажиров. Многие поднимались с мест, переходили в другой конец салона или толпились у выхода, ожидая остановки. Кто-то спешил к двери, кто-то тянулся к поручням, а отдельные не выдерживали и кричали водителю:
– Давай быстрее езжай!
Фарход, дрожа от возмущения, произнёс:
– Какая бомба! Это прибор! Я везу его папе!
– Не ври, это бомба! А если не так, то открывай его! – орала женщина. Она считала себя следователем, пусть не милиции, а трамвайного депо, с правом конфискации любых подозрительных предметов в салоне.
– Не открою! – сопротивлялся Исмаилов-младший.
Но старуху было не унять:
– Тогда я вызову милицию!
– Вызывайте! – Фарход был готов дать отпор любому, защищая изобретение папы-профессора.
– Тетенька, это обычный прибор с этими… флуктуациями, – попытался научными терминами пояснить Пипкин, которому совершенно не хотелось участвовать в скандале. Ему не хотелось попасть в неприятности с мамой, ведь если та узнает, что он вместо мытья полов и посуды ругается с представителем власти в лице кондукторши, а потом ещё и с милицией, то последствия будут серьёзными.
Он вспомнил, как после драки со Славой Тишкиным мама устроила ему разнос: «Что за поведение, драка, синяки, побои, и я должна всё это терпеть? Полы моешь и посуду моешь – а тут драки, скандалы, унижения…» – и сейчас перспектива новой ссоры стояла перед глазами как громада, от которой хотелось спрятаться.
– Вот я говорю – бомба! А ты, паршивец, вылетай из трамвая, а то оштрафую и посажу в тюрьму! – махая здоровенными руками, угрожала кондукторша, словно хотела сдвинуть весь вагон с рельс своим гневом.
Тут трамвай остановился, и Гавриле пришлось выйти из вагона вслед за испуганными пассажирами. Уже стоя на остановке, он услышал крик:
– Открывай коробку!
– Нет!
– Ах так!
Вдруг раздался сильный удар – возможно, кондукторша выхватила ящик и бросила его на пол изо всех сил. И тут произошло нечто невероятное: трамвай стал переливаться всеми цветами радуги, будто металлическая оболочка наполнилась жидким светом, каждый оттенок переливался и смешивался, образуя невиданные узоры и сияния.
Люди бросились врасплох, разбегаясь, убеждая себя, что перед ними настоящая бомба. Над вагоном полился свет, как на Северном полюсе от северного сияния, и стали бить молнии: то яркие, то молочно-белые разряды, будто сама природа решилась вмешаться. Воздух вибрировал, и оттого тротуар казался зыбким.
Пипкин стоял с открытым ртом, не в силах ничего понять. Он видел, как свет переливается, слышал тревожное жужжание прибора, но никакие мысли не складывались в слова.
Вдруг двери закрылись сами собой, и трамвай тронулся. С каждым мгновением его очертания становились всё менее различимыми, будто вагон растворялся в воздухе. Через несколько секунд он исчез, словно сахар, растворяющийся в горячем чае: сначала края растаяли, потом средняя часть, и наконец остался только пустой кусок рельс, залитый мерцающим светом.
Люди хлопали глазами, не веря своим глазам. Затем с криками стали разбегаться по улице, прячась за деревьями и лавочками. Со всех сторон слышались вопли:
– О-о, Иесусе!.. Аллах акбар!
Среди этой паники бежал и Гаврила. Сердце его колотилось, в голове стучала одна мысль: «Что это было? Что произошло? Куда исчез Фарход и та тетка-дура? Где трамвай?» Он даже не замечал, как ноги несли его прочь, а мир вокруг превратился в хаотичный вихрь света, криков и смятения.
Такие же вопросы ему позже задавали и следователи городской милиции, которые разыскивали 12 человек, включая Фархода, а также трамвай за эксплуатационным номером 1290 с водителем. Конечно, они не поверили ни Пипкину, ни другим свидетелям, рассказы которых на первый взгляд можно было выдать за бред: «детские фантазии», «влияние стресса», «паника».
Лишь Исмаилов-старший поверил. Он долго теребил усы, взгляд его блуждал где-то вдали, словно скользил по невидимым измерениям, и лишь пробормотал:
– Флуктуация… параллельный мир…
Возможно, он знал, где находится его сын и те несчастные, но вернуть их уже не мог. Видимо, прибор работал лишь в одном направлении, и то, что однажды было открыто, осталось навсегда закрытым для обратного пути. Его глаза на мгновение затуманились, как будто он вспоминал чужую реальность, где время и пространство подчиняются иным законам.
Прошли годы. Трамвай давно списали с баланса, старые листки с фотографиями исчезнувших сменились на новые, дело ушло в архив, а город постепенно забыл тот странный день. Гаврила Пипкин вырос, после школы пошёл в офицеры-политработники, где знание физики было не нужно: достаточно было выкрикивать лозунги «Лен! Партия! Комсомол!» и участвовать в парадах. И всё же он часто вспоминал своего друга, тихо вздыхая, каждый стакан водки поднимая за Фархода, за те мгновения, которые были настоящей жизнью. В Ташкент он больше не возвращался, предпочтя службу на Дальнем Востоке, где шумные трамваи и солнечные майские улицы остались только в памяти.
А история осталась. Иногда, когда вечерние трамвайные линии пусты, можно услышать слабое дребезжание дверей, тихие крики кондукторши, оправдания Фархода и едва различимое щелканье прибора, будто кто-то играет с параллельной реальностью. Но и это постепенно исчезнет, ведь новые городские власти решили убрать старый путь: трамвай признан не соответствующим современным требованиям урбанизации, устаревшим, старомодным.
И вместе с трамваем исчезнет грустная легенда, у которой была реальная основа – память о детской дружбе, о смелости и удивлении перед неизвестным, о мгновении, когда реальность слегка сместилась и показала, что мир вокруг нас может быть совсем иным. Останется только легкий ветер на рельсах, редкие дрожащие звуки и ощущение, что где-то, совсем рядом, когда-то проходил трамвай, которого никто больше не увидит.
(5 января 2017 года, Элгг,
Переработано 24 октября 2025 года, Винтертур)
ЗВЕЗДЫ БЕЗ НАС
(Фантастический рассказ)
Я стоял на капитанском мостике, задумчиво теребя подбородок. Экипаж, находившийся за моей спиной, замер в ожидании. Металлические стены, утыканные экранами, мягко гудели, как живое существо, готовое рвануть в черноту космоса. Но я команды на взлёт не давал, хотя ядерные двигатели давно прогрелись, и бортовой компьютер уже рассчитал программу полёта с точностью до десятых долей секунды. Вся энергия корабля «Заря-7» была сосредоточена, сфокусирована, как перед прыжком хищника. Осталось лишь нажать на кнопку – и десять тысяч тонн стали, титана и плазменных контуров, пробудившись от дремоты, вырвались бы из земной атмосферы, отправившись на субсветовой скорости к далёким звёздам.
Мониторы на пультах пилотов мерцали мягким синим светом. На них – маршрут полёта, идеальная дуга, тянущаяся через Солнечную систему и уходящая к созвездию Лиры. Спутниковые камеры передавали обзор звёздной плоскости: бескрайние россыпи галактик, мерцающие туманности, космическая пыль, подсвеченная далекими солнцами, – всё это было похоже на дыхание вечности. Меж звёзд двигались крошечные точки – астероиды, исследовательские зонды, следы других кораблей, оставленные в гравитационной ткани пространства. Казалось, ничто не мешало нашему старту, ничто не стояло на пути.
И всё же я медлил. Пальцы, замершие над сенсорами, не решались сделать последнее движение. За спиной я чувствовал недоумённые взгляды пилотов и штурманов, не говоря уже о семидесяти членах экипажа, находившихся в противоперегрузочных капсулах. В них царила тишина – нервная, тягучая. Каждый ждал сигнала, а я не мог произнести простые слова: «Пуск. Взлёт разрешаю».
Мои глаза были прикованы к главному экрану. Но там не было ни звёзд, ни планет, ни солнечных орбит. Там был прямой эфир – репортаж с места событий, происходивших всего в пяти километрах от космопорта.
Журналисты, дрожащими голосами перекрикивая сирены и выстрелы, передавали картинку с улиц столицы. Толпы людей, взбудораженных, обезумевших от боли и надежды, штурмовали административные здания. Пламя охватило фасады – огонь лизнул флаги, обуглил колонны и выбил стекла из окон. В воздухе висел чёрный дым, клубы которого скрывали лица. Полицейские, укрывшиеся за бронетранспортёрами, открывали огонь. Очереди срезали ряды протестующих, тела падали в грязь, на каменные ступени, на асфальт, залитый кровью. Но людская масса, несмотря на смерть и страх, шла вперёд – как прилив, unstoppable, глухой к боли, ведомый одной единственной целью: свергнуть ненавистного диктатора, правившего тридцать долгих лет железной рукой.
Его портреты ещё висели на стенах – холодный взгляд с потухшими глазами, мёртвый, как сама система, которую он создал. Режим, выстроенный на страхе, на доносах, пытках, нищете. Под его властью народ жил, как под прессом: дети трудились на хлопковых полях, студенты чистили арыки и каналы, медсёстры тянули за собой грязные мешки с мусором, инженеры и врачи метали метлы по пыльным улицам. В это время приближённые диктатора пилили бюджет с математической точностью хирургов. Они строили себе мраморные офисы, катались в заграничные туры на служебных джетах, покупали дорогие автомобили и особняки у моря. На их перстнях блестело золото, а на руках – кровь.
На виселицах у обочин качались тела оппозиционеров и диссидентов – слуг свободы, которых режим растоптал, как сорняк. И всё же люди не сдавались. Город, охваченный пламенем, ревел и дышал, словно пробуждённый вулкан.

Я стоял на капитанском мостике, глядя на всё это. Пульсирующий свет экрана освещал моё лицо, отражаясь в холодном металле пульта. Мы должны были уйти – улететь от Земли, навсегда оставить её за спиной, оставить этот ад, эту бездну, эту боль. Но что-то внутри меня не давало нажать на кнопку. Может быть, это было чувство вины. Может быть – надежда.
Даже этот звездолёт – гордость нации, венец инженерной мысли, символ «новой эры» – был построен на украденных у народа деньгах. Десятки миллиардов долларов, выделенные якобы из бюджета на образование, здравоохранение и социальную помощь, превратились в обшивку, гравитационные катушки, криокамеры и зеркальные панели для наблюдательных куполов. Учителя в школах месяцами не получали зарплаты, хирурги оперировали при свете переносных ламп, а старики в провинции умирали, не дождавшись пенсий. И всё ради того, чтобы правитель мог гордо продемонстрировать свою «космическую программу».
Конечно, при строительстве половину ресурсов разворовали. На складах числились детали, которых никогда не существовало, списывались тонны редких металлов, которых никто не видел. В отчётах стояли подписи министров, инженеров, чиновников – все получали свою долю. В итоге этот корабль обошёлся стране втрое дороже, чем аналогичные аппараты у соседних держав. Но диктатору было всё равно. Он хотел иметь свой звездолёт – чтобы его имя навсегда вписали в историю рядом с именами тех, кто первым шагнул в космос. Для него это был не научный проект, а манифест величия. Он мечтал, чтобы, когда корабль покинет атмосферу, его портрет в золочёной раме подняли на всех площадях, чтобы миллионы людей скандировали гимн, а телевидение целые сутки вещало о гении правителя.
И вот теперь я стоял на мостике и должен был отдать команду на старт. Отправиться к звёздам, оставив позади свою измученную, истерзанную страну и того человека, что довёл её до коллапса. Там, среди звёзд, меня будут ждать иные задачи: исследования, открытия, новые миры. Экипаж займётся великим делом – поиском ответов на вопросы, что волнуют человечество веками. Но я вдруг подумал: чего стоят эти ответы, если на родине дети умирают от голода и болезней? Если подростки не ходят в школы, потому что должны работать, чтобы прокормить младших? Если взрослые ломаются под бременем счетов, лишённые надежды и голоса?
Из экранов телевидения лился вязкий, липкий поток пропаганды. Дикторы с натянутыми улыбками говорили, что мы живём лучше всех, что нам завидует весь мир, что враги только и мечтают разрушить наш «особый путь». На заднем плане шли кадры парадов, праздников, сияющих детей в одинаковой форме, флагов, воздушных шаров. Но я знал: за этим – боль, за этим – ложь.
– Капитан, – тихо сказал пилот, наклоняясь ко мне, – мы отклоняемся от расчётного времени. Ещё немного, и придётся пересчитывать всю программу.
Я кивнул, но не ответил. Остальные молча смотрели на меня. В их взглядах не было ни упрёка, ни осуждения – только тревога и непонимание. Они чувствовали: что-то не так. Пальцы штурмана дрожали над клавиатурой, инженер машинально проверял показатели плазменных контуров, а я лишь поднял руку, показывая, чтобы ждали.
На экране продолжалась трансляция. Толпы людей ворвались в центр столицы. Полиция, не выдержав натиска, бежала, бросая щиты и оружие. Армия, наконец, перешла на сторону народа. На главной площади, под залпами, под криками, начиналась атака на президентский дворец.
Когда камера приблизилась, стало видно: это была не просто резиденция – настоящая крепость. Массивные стены из серого гранита, бронестёкла, пулемётные гнёзда, радары, системы подавления дронов, бетонные купола под куполами. Вокруг – ров, прожектора, линии обороны. Внутри – личная гвардия диктатора, до зубов вооружённая, готовая умереть вместе с ним. Взять этот бастион будет нелегко. И я знал: он не сдастся. Он утопит страну в крови, но власть не отдаст.

Он уже проходил этим путём. Когда-то, много лет назад, он приказал сравнять с землёй десятки деревень – тех самых, где люди вышли на митинги против новых налогов. После его приказа не осталось ни домов, ни полей – только пепелища и трупы.
И я вспомнил своё детство. Полуголодное, пыльное, прожжённое солнцем. Мы, школьники, вместо занятий выходили на хлопковые поля, собирать урожай для «родины» – на самом деле, для президента и его родственников. На завтрак у меня был сухой бублик и стакан кипятка, а под подушкой лежал потрёпанный учебник физики – я читал его по ночам, мечтая стать инженером.
Я вспомнил, как мою тётю, учительницу начальных классов, арестовали и подбросили наркотики – просто потому, что она отказалась вести детей на сбор урожая. Ей дали десять лет. Вспомнил маму, умирающую в больнице без врачей и лекарств – всё было продано чиновниками из Министерства здравоохранения на чёрном рынке. Вспомнил отца, токаря, сидящего у окна в темноте: его завод закрыли, а он не знал, как прокормить нас. И брата – моего старшего брата, который уехал гастарбайтером за границу и умер от истощения на стройке, выслав нам последние деньги.
Всё это мелькало перед глазами, как бесконечная киноплёнка, на которой выжжены лица, голоса, крики, слёзы. Всё это – моё прошлое, моя боль, моя вина.
Я почувствовал, как сжались кулаки. Будущее не должно быть таким. Не для них. Не для нас. Не для тех, кто верил, что ещё можно что-то изменить.
И тут я решился.
– Приготовить к стрельбе плазменную пушку, – сказал я негромко, но так, что в тишине мостика мой голос прозвучал, как выстрел.
Плазменное орудие «Зари-7» не предназначалось для боёв. Его создали как инструмент выживания – мощный, но оборонительный. В безмолвии космоса оно должно было разрушать астероиды, ледяные ядра комет и прочие небесные тела, что могли оказаться на нашем пути. Ведь космос – это не пустота, не безжизненный вакуум, как любят говорить романтики. Это кипящий хаос материи, где каждая частица, каждая глыба камня может нести смерть. Там, среди звёзд, пространство дышит миллиардами угроз, и лишь такие пушки спасают корабли, когда автоматическая защита не успевает среагировать. Без них нельзя пересечь парсек – корабль просто растерзают осколки метеоритов или ледяная пыль межзвёздных штормов.
Но мой приказ прозвучал странно. Непонятно.
Экипаж переглянулся. В глазах – растерянность, тревога. Несколько секунд – мёртвая тишина, нарушаемая лишь равномерным гудением реакторов. Люди не понимали, зачем включать оружие, если мы ещё стоим на земле, под куполом космопорта. Лишь главный пилот, старый офицер Куоран, медленно повернул ко мне голову. Он понял всё. Не спрашивая, он активировал пусковую систему, и на пульте загорелись рубиновые индикаторы. На экране появилась линия наведения.
– Цель? – спросил он негромко.
Я не стал испытывать его терпение.
– Дворец, – коротко сказал я.

Пауза длилась одно мгновение. И всё стало ясно без слов. Астронавты переглянулись вновь – но на этот раз без растерянности. Только молчаливое согласие. Никто не возразил. Ни один голос не дрогнул в наушниках. Они всё поняли.
Каждый из них нес в себе шрамы. Каждый бежал от чего-то – от диктатуры, от бедности, от безысходности. Для многих этот полёт был не просто миссией, а побегом. Спасением. Ведь там, в холодной бесконечности, нет денег, нет границ, нет кнута над головой. Нет полицейских, которые хватают за «неправильные слова». Нет экранов, изливающих ложь. Только тишина, свобода и звёзды.
Плазменная пушка, спрятанная в нижнем отсеке корабля, пробудилась. Её корпус, похожий на кристаллический цилиндр из сплава титана и гафния, начал мерцать изнутри. В реактор подалась энергия, и по стенам прошёл тихий гул – будто поднимался вулкан. Пушка вращалась на гравитационном шарнире, подчиняясь координатам, что вбил пилот. Излучающие катушки налились ослепительным светом – бело-голубым, как ядро звезды. На мониторе вспыхнуло предупреждение: ПРЕДЕЛ МОЩНОСТИ ДОСТИГНУТ.
– Орудие готово, капитан, – сказал Куоран, не отрывая взгляда от панели.
Я посмотрел на экран. Там, среди дыма и хаоса, возвышался дворец-дракон – крепость, чьи стены блестели в лучах пламени. Величественный, чудовищный, символ власти и страха.
– Огонь, – произнёс я.
Корабль содрогнулся. Воздух на мостике задрожал, как струна. За прозрачной броней иллюминаторов полыхнула ослепительная дуга – поток плазмы толщиной с дерево, разогнанный магнитным контуром почти до скорости света. Мгновение – и на экране вспыхнула белая вспышка, ослепив камеры спутников.
Дворец-крепость, веками стоявшая как символ власти, не выдержала. Плазменная струя прошила её, как горячий нож – масло. В считанные секунды гранит, броня и стекло расплавились, смешались в огненный дождь. Вспышка поднялась выше крыш, превратив купола и башни в кипящую лаву. Волна жара смела всё вокруг – флаги, ограждения, гвардейцев. От дворца остался только кратер, светящийся, как ожог на теле планеты.
Корабль содрогнулся ещё раз – и стих. На мостике повисла тишина. Я стоял, глядя на экран. Где-то там, внизу, рушился старый мир.
И впервые за долгие годы я позволил себе вдохнуть полной грудью.
Люди стояли, поражённые увиденным. На их глазах разрушилась не просто крепость – рухнула сама твердыня страха, ненависти и лжи, державшая страну в железных клещах десятки лет. Каменные стены, некогда символ несокрушимой власти, рассыпались в пыль, словно подтверждая: ничто не вечно, даже тирания. Из-под завалов поднимались клубы пепла и дыма, которые ветер уносил прочь, будто выдувал из страны всю многолетнюю грязь, кровь и гниль. В этом мгновении – среди грохота и треска – словно открылось новое дыхание мира. Люди, стоявшие на улицах, осознавали, что стали свидетелями конца эпохи.
А потом, словно кто-то снял с них тяжёлые цепи, толпа закричала. Кричали от восторга, от облегчения, от боли, накопленной годами. Старики плакали, прижимая руки к сердцу, не веря, что дожили до этого дня. Молодые, не знавшие ничего, кроме страха, обнимались и целовались, смеясь и плача одновременно. Дети сидели на плечах родителей, хлопали в ладоши, бросали в небо шапки, бумажные флажки, обломки цветов – всё, что попадалось под руку. Полицейские, ещё вчера грозные, теперь бросали оружие на мостовую и поднимали руки, сдаваясь. Из зданий правительственных учреждений, где раньше сидели чиновники, выходили бледные, трясущиеся люди – те, кто годами воровал, предавал, приказывал убивать. Они больше не скрывали страха – знали, что за ними придут, что народ вспомнит всё и уже не простит.
И над этой волной ликующих лиц, над дымом и пламенем, над разрушенными стенами, как свет нового рассвета, раздавалась «Марсельеза». Сначала тихо – кто-то запел дрожащим голосом, потом громче, сильнее, пока не подхватили все. И гимн, рождённый в другой стране и в другую эпоху, стал их собственной песней – песней освобождения.
Я стоял у экрана, долго смотрел на всё это и, наконец, сказал, обернувшись к экипажу:
– Я не могу лететь, когда нужно строить новую жизнь.
Они молчали. Только пилот слегка кивнул.
– Стране нужны ресурсы, – продолжил я, – что вложены в корабль. Атомный реактор даст энергию всем – и большим городам, и деревням. Наши лаборатории смогут производить лекарства, которые сейчас недоступны больным. Очистные установки оживят реки и почву, выведут из них яд, что травил людей десятилетиями. А двигатели… двигатели «Зари» можно использовать в транспорте, для бурения, для восстановления тоннелей и шахт. Эта машина может стать сердцем новой цивилизации, если мы сами этого захотим.
Я посмотрел на них – на этих людей, готовых покинуть Землю ради мечты.
– Решение за вами, друзья. Хотите – летите. Корабль ваш. Но без меня. А если останетесь – я буду рад.
Никто не протестовал. Они не спорили, не уговаривали. Просто встали, молча, один за другим, и направились к выходу. В их движениях чувствовалось что-то светлое – спокойная решимость, уверенность, будто каждый наконец понял своё место. Они хотели быть с народом, с этой возрождённой страной, где их знания и руки могли что-то значить. Хотели не просто жить, а строить.