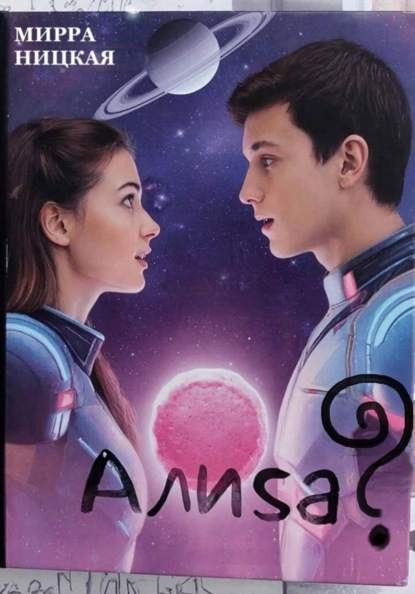- -
- 100%
- +
– Здравствуйте, Вадим…
– Николаевич, – подсказал Вадим и выразительно добавил: – Доброе утро, Елена Евгеньевна! Как вы, привыкаете к новому месту?
Пока девушка отвечала, нейротехнолог придирчиво оценивал искорки кокетства в серо-зелёных, блестящих, как полированные камушки, глазах. Практиканточка выглядела совсем уж наивной. За её подчёркнутой вежливостью легко читалась робость новичка, впервые привлечённого к серьёзной работе. А откровенный интерес к симпатичному коллеге даже не стал затруднять себя камуфляжем. На секунду к Усольцеву вернулась скука, но внезапно мелькнувшее под шоколадной чёлкой нефритовое лукавство приятно подогрело кровь. Совсем как вчера, когда Док только представил коллективу новую временную сотрудницу.
«Что ж, это будет не трудно, – со смешанным чувством удовлетворения и апатии подумал привычный к женскому вниманию сердцеед. – Зелёные глазки – это хорошо. Люблю, когда зелёные глаза и тёмные волосы… А ведь мы, вроде как, смутились и покраснели? Ну, точно! Видать, совсем плохо дело… Может, не стоит и начинать? Не избавишься же потом по-хорошему…»
Взвешивая стоимость энергозатрат, молодой человек наблюдал, как дышит цветущей свежестью подвижное, гладкое личико – изгибаются тонкие брови, порхают пушистые ресницы, вздрагивают крылья милого, чуть курносого носика. Смотрел, как появляются и исчезают славные углубления на розовых щёчках и пытался представить себе их неуловимую, податливую под пальцами, пластику. Его определённо чаровала верхняя, слегка вздёрнутая губка, которая задорно подпрыгивала на долгих «у» и пухло круглилась на каждом из «о».
Он снова подивился тому, что на досуге ни разу не вспомнил о своём новом знакомстве. Похоже, виной тому могла быть только Карина, почему-то именно вчера решившая блеснуть утроенным пылом и особенно буйной фантазией. «Ах да! Карина!» – Вадим изобразил досаду, показывая, что вынужден прервать приятный для него разговор. Одарив девушку покровительственной улыбкой, он принял деловитый вид и направился к своему рабочему месту.
Не успел ещё Усольцев накинуть свой халат, как створка входной двери вновь мягко вздохнула. Прежде всего прочего, в образовавшемся проёме показались кисти двух рук – худощавых, покрытых патиной голубых жилок и мелких морщин. Длинные пальцы, заметно утолщённые на суставах, странно суетились, теребя меж собой какую-то салфетку. Казалось бы, за столь оживлёнными руками должна была последовать не менее импульсивная фигура, но нет – облик вошедшего не только не оправдывал подобных ожиданий, но и совершенно их опровергал.
На пороге лаборатории царственно возник высокий, подтянутый человек лет семидесяти, с не по возрасту прямой, будто насаженной на крепкую ось, осанкой. Несмотря на жаркую погоду, он был одет в трикотажный кардиган и плотные, классического покроя брюки. Солидный, правда слегка потускневший от времени плащ, придавал узким и приподнятым плечам вошедшего дополнительную основательность. Казалось бы, завершающим штрихом подобного гардероба непременно должно было стать какое-нибудь добротное твидовое кепи, но ничего такого вознесённую ввысь голову не украшало. Дело в том, что профессор Двинский, а это был именно он, вообще никогда, даже зимой, не носил головных уборов. Вместо них его макушку неизменно венчала копна великолепной, кипенно-белой седины, имевшей обычай складываться в живописное нагромождение, достойное кисти самого взыскательнейшего из фламандцев.
Пышная шевелюра заметно увеличивала и так немалый рост профессора. Но гораздо больше значимости долговязой его фигуре придавала высоко вскинутая, острая, алюминиевого оттенка бородка, седые пряди которой эффектно перемежались с нетронутой годами чернью. Привычка державно нести красивую голову заставляла Двинского глядеть немного сверху, из-под век, которые прятались в тени густых, почти сросшихся и совершенно чёрных бровей. Приподнятый подбородок вкупе с сошедшейся на переносице растительностью придавал лицу профессора вид суровый и неприступный, который порой можно было принять за чрезмерную самоуверенность или даже надменность. В то время, как первое в чём-то соответствовало истине, второе, при более близком знакомстве с Доком – оказывалось непростительным заблуждением. Когда глубоко посаженные глаза профессора дарили собеседника блеском двух драгоценных агатов, то излучали они твёрдость убеждений, упорство и проницательность, но никак не высокомерие.
Выходило, что весь облик Двинского, значительный и компетентный, ни коим образом не вязался с той самостоятельной жизнью, которую проявляли нервные пальцы его длинных, худых рук. Завершив свой моцион, они – пальцы – теперь комкали кусочек белой ткани так, будто никак не могли придумать, что же с ним делать дальше. Под мышкой Двинский зажимал потёртый и довольно пухлый портфель. В век нейросетей и универсальных голографических интерфейсов этот аксессуар выглядел бы совершенным анахронизмом, не сочетайся он так удачно с не менее антикварным профессорским костюмом. Ввергнувшись твёрдой поступью в лабораторию, Док перехватил портфель под другую руку и, вместо того, чтобы выбросить истерзанную салфетку в корзину, сунул её зачем-то себе в карман. Затем поприветствовал сотрудников и, не меняя темпа, величаво прошагал к своему кабинету.
Когда за фигурой импозантного и, в то же время, несколько рассеянного руководителя захлопнулась дверь, резиденты лаборатории перевели дух – сегодня шеф был в настроении! Его с головой выдал тот самый платок, который теперь, по противоречивости характера владельца, пребывал не в мусорной корзине, а в его кармане. Маленькая тайна Двинского, разумеется, не была секретом ни в стенах лаборатории, ни за её пределами. И заключалась она в трогательной дружбе учёного со случайно прибившейся к институтской столовой хромой дворнягой.
Вислоухий Полкан, такой же видавший виды и поджарый, как сам Док, стал полноправным членом научного сообщества относительно недавно – в преддверии минувшей зимы. Появившаяся на аллеях институтского лесопарка ничейная собака, разумеется, сразу привлекла к себе всеобщее внимание. На какое-то время она даже стала знаменитостью, вызвав оживлённые споры по поводу своей дворняжьей судьбы. Кто-то предлагал изловить пса и определить его в хороший приют, кто-то настаивал на обращении в службу отлова. Находились и такие, кто советовал оставить животное в покое, несмотря на то, что уклад высокотехнологичного заведения не подразумевал присутствия на его территории четвероногих беспризорников. Прогнать же живое существо обратно в лес, на зиму глядя, было вовсе не по-христиански. Пока всегда голодные до локальных сенсаций работники умственного труда судили да рядили, произошло то, чего положительно никто не мог и ожидать.
Между авторитетным, всеми почитаемым, но не слишком общительным профессором и приблудным псом вдруг проклюнулись ростки обоюдной привязанности. Едва лишь сие событие стало достоянием общественности, споры и разногласия тут же прекратились. Доброжелатели Двинского хорошо знали, что кальвинистская сдержанность его натуры являлась, во многом, следствием ряда постигших профессора, глубоко личных трагедий. Поэтому собаке, непостижимым образом растопившей корочку льда на сердце учёного, позволили остаться. А пёс не уронил своего собачьего достоинства, согласившись патрулировать подшефную ему теперь территорию в обмен на заботу о себе.
Единственной слабостью независимого животного стал Док. Почувствовав в профессоре родственную душу, Полкан возложил на себя священную обязанность ежедневно встречать и провожать своего протеже на маршруте между парковкой и мраморным стилобатом институтской семиэтажки. В свою очередь Двинский, нимало не подозревавший о причине усыновления пса научным сообществом, всячески старался не подавать виду, что знаком с ковыляющей за ним дворнягой. Размашистым шагом, не оглядываясь, он обычно преодолевал свой недолгий путь и бестрепетно оставлял верного провожатого у стеклянного тамбура по утрам или на парковке – по окончании рабочего дня.
Но иногда Полкану везло. Это случалось, когда профессор, стараясь не привлекать лишнего внимания, углублялся в одну из боковых аллей, присаживался на скамейку, доставал из портфеля какое-нибудь лакомство и угощал им своего тайного друга. Мимолётно, как бы невзначай, Двинский трепал серо-коричневую шерсть, произносил несколько скупых слов, а потом, глядя в вишнёвые бусины, думал о чём-то таком, что отражалось от их блестящей поверхности, как от безмолвного, но всё понимающего зеркала.
Спустя некоторое время профессор, с посветлевшим лицом, поднимался со скамьи и, как ни в чём не бывало, шёл по своим делам, тщательно отирая платком руки. Разумеется, в такие моменты решительно ничего не могло измениться ни в природе, ни в законах мироздания, но неизбежное остывание Вселенной, обещанное вторым началом термодинамики, отодвигалось прочь ещё на несколько бесценных наносекунд.
***
За спиной Вадима скрипнуло. Такой стерильный звук мог издать только безупречный в своей чистоте и свежести халат Альбруны или – Альбиноски, как называл её Усольцев за молочно-белый оттенок кожи и вопиющую блёклость всех остальных достоинств. Это была та самая особа, которая в эпоху высоких технологий никак не могла отказаться ни от сильно минусовых диоптрий, ни от любви к накрахмаленным по старинке и тщательно отутюженным халатам. Повинуясь властному притяжению, которое так безошибочно определил Полкан, она тоже собралась проследовать за профессором. Мельком кинув взгляд в крохотное зеркальце, Альбиноска поправила кудряшку у виска и зацокала каблучками к кабинету начальника.
Да, это была ещё одна заезженная мелодия в репертуаре семиэтажной шарманки. Говорили, что Альбруна работала в лаборатории Двинского с самого дня её основания. Точное количество лет назвать никто не решался, но не было в Институте человека, не знавшего, что ровно столько же времени и ни часом меньше, она тайно обожала своего выдающегося руководителя. Об этом знали все, кроме, разумеется, самого Двинского.
Скромная и ответственная, бессменная соратница и опора, Альбруна пережила вместе со своим кумиром два его развода, гибель сына при восхождении на К2, замужество дочери и её тяжёлую травму на восьмом месяце беременности. Всё это время вечная лаборантка довольствовалась добровольно возложенными на себя обязанностями – носила в профессорский кабинет чай и кофе, поливала цветы, которые сама же там и угнездила, блюла расписание встреч и семинаров, покупала авиабилеты, бегала с бумажными распечатками в бухгалтерию и канцелярию. Наградой же за столь самоотверженную преданность было то, что у Двинского за все посвящённые Институту годы ни разу не возникла мысль взять на работу секретаршу.
Правда, справедливости ради, нельзя отрицать того факта, что профессор не однажды задерживал созерцательный взгляд своих цыганских глаз на пепельном блонде Альбруны. Но нравственное кредо, более древнее, чем докембрийское оледенение, заставляло его тут же вскидывать алюминиевую бородку – никаких служебных романов! Это же правило касалось и всех остальных очных сотрудников лаборатории.
Для Усольцева нелепые профессорские принципы были чем-то вроде досадной блажи. Он даже не пытался воспринимать заведённый порядок всерьёз. А программиста Игоря подобные вопросы и вовсе не тяготили. Большой, медлительный, нескладный, этот обладатель каплевидного, как у мунковского крикуна2, черепа, украшенного сократовским лбом, был, казалось, крайне равнодушен ко всему, что могло отвлечь его от расквантованных энергий в пользу грубой макроматерии. Редко когда пуговицы его халата оказывались застёгнутыми на соответствующие им петли. В разрезе воротника обычно виднелась одна из полудюжины, застиранных до бесцветности футболок. Жиденький венчик вокруг ранней проплешины приобретал упорядоченный вид только если по нему проходился гребешок Альбруны. Отдавая должное вездесущей лаборантке, надо заметить, что, помимо прочих забот, она сумела взгромоздить на свои хрупкие плечи и шефство над этим отрешённым гением.
Гением же Игоря признавали все, кому случалось перекинуться с ним хотя бы несколькими фразами. Другое дело – категория, к которой собеседник относил обнаруженную гениальность. Здесь многое зависело от свойств того мыслительного аппарата, который пытался постичь кудрявые и вроде как не относящиеся к делу Игоревы сентенции. На простейший вопрос о том, не подменит ли он, Игорь, коллегу на дежурстве, вполне можно было получить ответ вроде: «Работа нервной системы человека имеет чёткое целеполагание, в отличие от его, человека, деятельности». Или: «Высокая приспосабливаемость вида определённо не совместима с высокой моралью». Вот и понимай, как хочешь! В подобных случаях программиста обычно признавали гением чудачества или занудства, несмотря на то, что отказов в просьбах никто и никогда не получал.
Находились, правда, и те, кто возлагал на чудаковатого айтишника большие надежды. Прежде всего, это был сам Двинский. Целеустремлённый профессор, живущий одной лишь своей работой, и не менее увлечённый делом аспирант вовсе не обнаруживали друг в друге никаких странностей. Напротив, они часто и подолгу беседовали, находя в том немало удовольствия. Используя птичий язык гипотез и аргументов, они без устали искали таких доказательств, которые не сводились бы непременно к предположениям, совершенно и безнадёжно недоказуемым.
Бывало, подобные поиски, превращаясь в спор, достигали столь высокого градуса интеллектуального накала, что оппонентам приходилось оставлять просторы лаборатории и удаляться в кабинет. И тогда даже плотно запертая дверь не могла заглушить рокочущие глубоким профессорским баритоном вердикты, вроде «Контрфактологично!» или «Вне предельных обобщений!», которые то и дело прерывались неожиданно высоким тенором, призывающим в свидетели Парменида и Фу Си3, Тьюринга и Гёделя, Лобачевского, Минковского, Ляпунова и прочих, не менее авторитетных изобретателей абстрактных истин. И, чем жарче разгорался спор, тем чаще каблучки Альбруны выстукивали дробь по уложенному в шахматном порядке ламинату, ибо наполнение чаем и кофе страждущих вместилищ многомерных логик тоже не являлось простой задачей.
Иногда же, наоборот, соблюдая полнейшее молчание, Док и Игорь неспеша прогуливались средь кущ институтского парка. Профессор – высокий, худой, подтянутый, в своём неизменном всепогодном плаще, с колеблемой ветром сединой и указующей путь, окладистой бородкой. Программист – круглый и приземистый, с розовыми телесами, выпирающими из-под куцей курточки, в растянутых джинсах, мятой панаме и ветхозаветных сандалиях на босу ногу. Со стороны эта пара здорово напоминала знаменитый дуэт Сервантеса, а усердно хромающий позади Полкан только усиливал сходство, исполняя роль верного Росинанта. Подозревая в габаритах Игоря скрытую угрозу для объекта своего покровительства, четырёхлапый ветеран держался точно на расстоянии прыжка от грузной фигуры – так, чтобы быть уверенным, что всегда сможет защитить от неё худую.
Перестук каблучков Альбиноски смолк перед дверью кабинета. Усольцев проводил ироничным взглядом вполне ещё стройный силуэт. Понаблюдал, как согласно ритуалу, сухонькая ручка поправила очки на переносице, разгладила несуществующие складки халатика и робко поскреблась по полотну преграды. Мгновенно соскучившись, нейротехнолог перевёл глаза на стиснутые униформой округлости новенькой практикантки. Аппетитное создание что-то увлечённо шептало в пульт, деликатно прикрытый ладошкой. При этом, под шоколадной чёлкой творилось нечто невообразимое. Самые противоречивые эмоции сменяли друг друга с быстротой кадров кинохроники. А из-под ресниц, ослепляя жгучей зеленью, то и дело взбрызгивали сканирующие искры. Подобно дежурной пиротехнике, они, без всяких сомнений, обеспечивали базе ситуационный контроль. Среагировав на интервенцию, база ответила тёплым нефритовым свечением и тут же вновь скрылась под шелковистым навесом.
Усольцев сузил веки. Не смог сдержать улыбку, внутренне одобрив многообещающий план на вечер. Затем повернулся к мониторам и… в ту же секунду напрочь забыл обо всём – о Леночке, об Альбиноске, о Доке и даже о своём породистом серебристом родстере. Всё, только что казавшееся важным, отодвинулось в необозримые дали. Приглушённое чириканье зеленоглазой девчушки осталось где-то в параллельном, в миг потерявшем значение, мире. Оттуда же, глухой дробью, сыпалось бряканье клавиш и переключателей, шелестели матовые створки двери, звенели кофейные чашки. До всего этого Вадиму теперь не было ровным счётом никакого дела. Он – вернулся к Карине. Запущенная на распределённой сети квантовых процессоров, интеллектуальная эвристическая система «Карина» вновь была в его безраздельной власти.
Пробежав глазами отчёты подшефных тестировщиков, Усольцев, не задумываясь, отправил в архив эти, по большей части бесполезные, по его мнению, домыслы. После чего сам приступил к параллелизации преобразований, транспонированию матриц, построению опорных векторов и инвертированию решающих деревьев. Одним словом – к оценке и всестороннему развитию способностей своей слепленной из фотонных и спиновых кубитов Галатеи4.
Погружённого в общение с Искусственным Интеллектом нейротехнолога нисколько не заботила мысль о том, что Карина – не его личный проект, а плод многолетнего труда десятков, если не сотен специалистов. В том числе, таких же квалифицированных тестировщиков, как и он сам. Здесь и сейчас они с Кариной были наедине, и послушная девочка отвечала своему Пигмалиону полной взаимностью. Слитые в едином биоцифровом измерении, они совместно проектировали алгоритмы, решали нестандартные задачи, штурмовали недоказанные теоремы, сочиняли стихи, философствовали, перебрасывались только им двоим понятными остротами и, разумеется, строили планы на свободное от работы время.
Усольцев погружался в нейроморфные структуры Искусственного Интеллекта, как аквалангист погружается в загадочную подводную стихию. Он, как рыба в воде, резвился в пространстве, где обыкновенное свойство оставленного позади мира – свет – лишь сгущает тени неведомых глубин. Чувствовал себя как дома там, где привычные физические законы не могут объяснить поведения изменённой материи. Повинуясь спонтанному наитию, тестировщик испытывал Карину методами линейной регрессии, формировал для неё ветви случайного леса и классификационные модули, а она, в свою очередь, заботливо вставляла в свои безупречные результаты фразы типа: «Не перетруждайте себя, Вадим Николаевич! Я поняла и сама допишу всё за вас». Или: «Время обеда, Вадим Николаевич! Вам необходимо отдохнуть и восполнить силы. Заказываю в столовой порцию ваших любимых биточков из телятины». И тут же, вдогонку: «Уверена, на десерт вам сегодня хотелось бы яблочного штруделя с лимонным сиропом, я угадала?»
Слабая попытка Усольцева отложить обед хоть на полчаса, как обычно, не увенчалась успехом. Карина традиционно погрозилась, что, в таком случае, не выдаст результата. А в добавок, к удивлению своего оператора, обещала особенно порадовать его, если тот «будет умницей и хорошо поест». Чем порадовать? Загадочная улыбка Моны Лизы с экрана монитора была ответом. Вадим задержал пальцы на голографических клавишах. Дождался, пока они растают в воздухе, вздохнул и нехотя заставил себя оторваться от игры с многофункциональным разумом.
– Ладно, если ты так настаиваешь, – произнёс он вслух. – Надеюсь, твой сюрприз будет стоить моей жертвы.
Но расставаться даже на несколько минут не хотелось. Усольцев одним движением развернул к себе пластиковую клавиатуру: «И не забудь подготовиться, госпожа Тёмная Леди, к разгрому своих зергов – вечер уже близко!» И ещё: «Да, Кариш! Закажи на ужин что-нибудь китайское. И киношку. На твой выбор. Вернусь домой сразу после работы. Отбой».
Глава 2. Леночка
Столовая НИИ гудела, как улей в знойный полдень. Длинную шершавую ноту сопровождало звяканье приборов о добротное посудное стекло. Время от времени коротко тренькал раздаточный автомат, сообщая о готовности очередного заказа. Несмотря на большие окна с южной стороны, помещение, казалось погружённым в тень и походило скорее на лужайку, обрызганную полуденными контрастами, чем на сооружение из бетона и стекла. Виной тому была россыпь солнечных зайцев, протиснувшихся сквозь плотную наоконную флору. Веселясь от души, пятна света разбежались по прямоугольникам столешниц, зажгли кончики ножей и вилок, пуговицы, серьги, брошки. С именных бейджей они прыгали на браслеты универсальных пультов, а с них – на экраны размещённых на каждом столе общественных мониторов, где путались в потоках радиоволн, среди гигабайтов рабочей и частной информации.
Один из озорников умчался в глубину зала и подсветил там гладкую, тёмно-каштановую чёлку, полив её медвяной позолотой. Усольцев зажмурился. То ли от ряби в глазах, то ли в попытке наладить внутренний компас, сбитый действием взаимоисключающих полей. Он мысленно покрутил так и этак возможные профиты и гешефты на предмет требуемых для их получения энергозатрат. Поколебавшись, решил, что, пожалуй, можно было бы и отложить битву ситхов и имперцев ради свидания, намеченного ещё с утра. Вернее – ещё со вчерашнего дня. К тому же, риск не велик – ни одна из его потенциальных подруг так и не сумела выдержать присутствия гораздо более успешной соперницы, даже имя которой – Карина5 – символизировало абсолютную безупречность. Отвалится и эта. Но ведь не сразу. До попыток зеленоглазой очаровашки выяснить, почему ей достаётся так мало внимания, и с кем это её сердечный друг проводит почти всё свободное время – ещё далеко. Тогда как лимбическая система здорового мужского организма требует новых впечатлений, а игрек-хромосомы – новых побед.
Смахнув с пульта иконку приложения «Карина» вместе с чувством вины перед своей цифровой подшефной, Усольцев подхватил собранный её стараниями обед и направился в сторону практикантки.
– Эй, Усольцев! – окликнули его из-под локтя. – Заруливай сюда, нейротестер! Слышал, чилийцам опять с инопланетянами повезло?
– Давай к нам, Эксгуманоид! Чего ты? Из эфира совсем исчез, а теперь даже не здоровается!
Шутливо-обиженный тон принадлежал плечистой барышне с короткой стрижкой и в столь же коротких шортах, обнажавших под столом крепкие спортивные ляжки.
– А, Аккреция, привет, – вяло откликнулся нейротехнолог, чуть замедлив шаг. – Привет, Уфонавт! И тебе… М31, долгих световых лет!
Оживление белобрысого парня, сидевшего рядом с Аккрецией, говорило о том, что это он первым заметил товарища по сетевой группе. Безоблачная лазурь под светлыми ресницами Уфонавта выдавала на зависть уравновешенную и безмятежную натуру. Не моргая, он поливал подошедшего «нейротестера» лучами того благодушия, которое свойственно, разве что, любимым домашним питомцам или оторванным от реальности мечтателям. Третьим членом маленькой компании была девушка с замысловатой стрижкой цвета майской сирени. При обращении к ней Вадима, обладательница сиреневых волос и псевдонима, означавшего код Туманности Андромеды, неожиданно смутилась. Атлетичная её подруга, заметив это, неодобрительно повела бровью, смерила всё ещё стоящего с подносом в руках Эксгуманоида суровым взглядом и вопросила:
– Так и будешь торчать на проходе, Усольцев? Давай, падай! Расскажи, куда пропал, почему комменты игноришь? Здоров?
Вадим оглянулся на тёмно-каштановую головку. Солнечный луч уже скользнул ниже и подсветил смуглое, по-летнему открытое плечо. Стоящий рядом стул был пока свободен.
– Да всё норм. В проекте закопался. И вообще… – говоря это, Усольцев сканировал обстановку на наличие желающих занять облюбованное им место. Возиться с непредвиденными сложностями не хотелось, а потому следовало поторопиться. В его голосе появились нетерпеливые нотки: – И вообще, знаете ли… Я вполне согласен с Ферми. Всё хотел спросить – «где они все?»6, эти ваши инопланетяне?
– Ах, так это на-аши инопланетяне? – протянула Аккреция и ещё раз взглянула на потупившуюся соседку. – То есть появление неопознанного объекта над Атакамой для вас, товарищ Усольцев, теперь не предмет научного интереса. А причину узнать не позволите?
Вадим скользнул взглядом по опущенным ресницам Объекта М31, по воинственной позе Аккреции, по лазури мечтательных глаз Уфонавта. Похоже, эта дружная троица до сих пор считает его, Вадима Усольцева, таким же, как они – беспечным болтуном, запертым, подобно им самим, в узких границах примитивной биохимии! Их панибратский тон, который раньше казался Усольцеву естественным, теперь коробил и даже злил. От откровенной грубости навязчивую троицу спасла только причина их невежества. Ну, конечно! Откуда им было знать, наставником и кумиром какого мощного интеллекта является он – «нейротестер»?
Усольцев отдавал себе отчёт в том, что результаты работ по проекту Двинского выносились за пределы лаборатории не часто. Поэтому лишь немногие могли знать о том, каких успехов достигло моделирование аналога человеческого мозга. Но едкий тон Аккреции, а в особенности слепая вера во всяческие чудеса, так раздражавшая его в сиреневой М31, заставили Усольцева подойти и опустить поднос на занятый компанией столик. Недобро усмехнувшись, бывший Эксгуманоид ещё раз оглядел лица коллег своими жёлтыми кошачьими глазами и небрежно ткнул кнопку на ближайшем мониторе. Затем он продиктовал в пульт короткий запрос и скинул выдачу на этот и все свободные из рядом расположенных экранов.